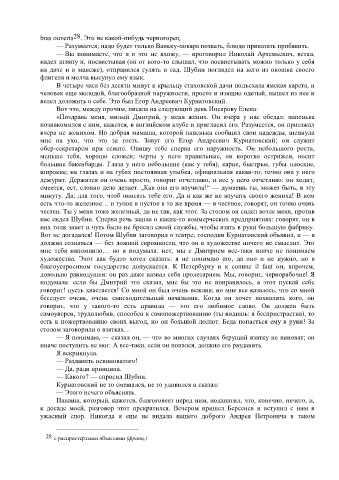Page 51 - Накануне
P. 51
28
bras ouverts . Это не какой-нибудь черногорец.
— Разумеется; надо будет только Ваньку-повара позвать, блюдо приказать прибавить.
— Вы понимаете, что я в это не вхожу, — проговорил Николай Артемьевич, встал,
надел шляпу и, посвистывая (он от кого-то слышал, что посвистывать можно только у себя
на даче и в манеже), отправился гулять в сад. Шубин поглядел на него из окошка своего
флигеля и молча высунул ему язык.
В четыре часа без десяти минут к крыльцу стаховской дачи подъехала ямская карета, и
человек еще молодой, благообразной наружности, просто и изящно одетый, вышел из нее и
велел доложить о себе. Это был Егор Андреевич Курнатовский.
Вот что, между прочим, писала на следующий день Инсарову Елена:
«Поздравь меня, милый Дмитрий, у меня жених. Он вчера у нас обедал; папенька
познакомился с ним, кажется, в английском клубе и пригласил его. Разумеется, он приезжал
вчера не женихом. Но добрая мамаша, которой папенька сообщил свои надежды, шепнула
мне на ухо, что это за гость. Зовут его Егор Андреевич Курнатовский; он служит
обер-секретарем при сенате. Опишу тебе сперва его наружность. Он небольшого роста,
меньше тебя, хорошо сложен; черты у него правильные, он коротко острижен, носит
большие бакенбарды. Глаза у него небольшие (как у тебя), карие, быстрые, губы плоские,
широкие; на глазах и на губах постоянная улыбка, официальная какая-то; точно она у него
дежурит. Держится он очень просто, говорит отчетливо, и все у него отчетливо: он ходит,
смеется, ест, словно дело делает. „Как она его изучила!“ — думаешь ты, может быть, в эту
минуту. Да; для того, чтоб описать тебе его. Да и как же не изучать своего жениха! В нем
есть что-то железное… и тупое и пустое в то же время — и честное; говорят, он точно очень
честен. Ты у меня тоже железный, да не так, как этот. За столом он сидел возле меня, против
нас сидел Шубин. Сперва речь зашла о каких-то коммерческих предприятиях: говорят, он в
них толк знает и чуть было не бросил своей службы, чтобы взять в руки большую фабрику.
Вот не догадался! Потом Шубин заговорил о театре; господин Курнатовский объявил, и — я
должна сознаться — без ложной скромности, что он в художестве ничего не смыслит. Это
мне тебя напомнило… но я подумала: нет, мы с Дмитрием все-таки иначе не понимаем
художества. Этот как будто хотел сказать: я не понимаю его, да оно и не нужно, но в
благоустроенном государстве допускается. К Петербургу и к comme il faut он, впрочем,
довольно равнодушен: он раз даже назвал себя пролетарием. Мы, говорит, чернорабочие! Я
подумала: если бы Дмитрий это сказал, мне бы это не понравилось, а этот пускай себе
говорит! пусть хвастается! Со мной он был очень вежлив; но мне все казалось, что со мной
беседует очень, очень снисходительный начальник. Когда он хочет похвалить кого, он
говорит, что у такого-то есть правила — это его любимое слово. Он должен быть
самоуверен, трудолюбив, способен к самопожертвованию (ты видишь: я беспристрастна), то
есть к пожертвованию своих выгод, но он большой деспот. Беда попасться ему в руки! За
столом заговорили о взятках…
— Я понимаю, — сказал он, — что во многих случаях берущий взятку не виноват; он
иначе поступить не мог. А все-таки, если он попался, должно его раздавить.
Я вскрикнула.
— Раздавить невиноватого!
— Да, ради принципа.
— Какого? — спросил Шубин.
Курнатовский не то смешался, не то удивился и сказал:
— Этого нечего объяснять.
Папаша, который, кажется, благоговеет перед ним, подхватил, что, конечно, нечего, и,
к досаде моей, разговор этот прекратился. Вечером пришел Берсенев и вступил с ним в
ужасный спор. Никогда я еще не видала нашего доброго Андрея Петровича в таком
28 с распростертыми объятьями (франц.)