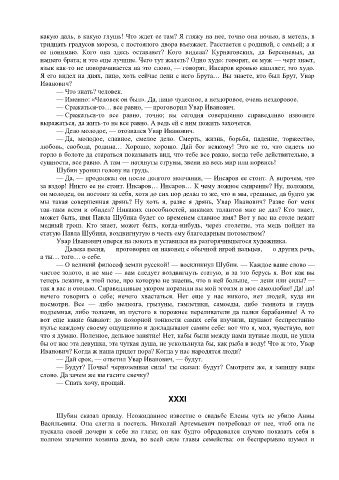Page 69 - Накануне
P. 69
какую даль, в какую глушь! Что ждет ее там? Я гляжу на нее, точно она ночью, в метель, в
тридцать градусов мороза, с постоялого двора въезжает. Расстается с родиной, с семьей; а я
ее понимаю. Кого она здесь оставляет? Кого видела? Курнатовских, да Берсеневых, да
нашего брата; и это еще лучшие. Чего тут жалеть? Одно худо: говорят, ее муж — черт знает,
язык как-то не поворачивается на это слово, — говорят, Инсаров кровью кашляет; это худо.
Я его видел на днях, лицо, хоть сейчас лепи с него Брута… Вы знаете, кто был Брут, Увар
Иванович?
— Что знать? человек.
— Именно: «Человек он был». Да, лицо чудесное, а нездоровое, очень нездоровое.
— Сражаться-то… все равно, — проговорил Увар Иванович.
— Сражаться-то все равно, точно; вы сегодня совершенно справедливо изволите
выражаться, да жить-то не все равно. А ведь ей с ним пожить захочется.
— Дело молодое, — отозвался Увар Иванович.
— Да, молодое, славное, смелое дело. Смерть, жизнь, борьба, падение, торжество,
любовь, свобода, родина… Хорошо, хорошо. Дай бог всякому! Это не то, что сидеть по
горло в болоте да стараться показывать вид, что тебе все равно, когда тебе действительно, в
сущности, все равно. А там — натянуты струны, звени на весь мир или порвись!
Шубин уронил голову на грудь.
— Да, — продолжал он после долгого молчания, — Инсаров ее стоит. А впрочем, что
за вздор! Никто ее не стоит. Инсаров… Инсаров… К чему ложное смирение? Ну, положим,
он молодец, он постоит за себя, хотя до сих пор делал то же, что и мы, грешные, да будто уж
мы такая совершенная дрянь? Ну хоть я, разве я дрянь, Увар Иванович? Разве бог меня
так-таки всем и обидел? Никаких способностей, никаких талантов мне не дал? Кто знает,
может быть, имя Павла Шубина будет со временем славное имя? Вот у вас на столе лежит
медный грош. Кто знает, может быть, когда-нибудь, через столетие, эта медь пойдет на
статую Павла Шубина, воздвигнутую в честь ему благодарным потомством?
Увар Иванович оперся на локоть и уставился на разгорячившегося художника.
— Далека песня, — проговорил он наконец с обычной игрой пальцев, — о других речь,
а ты… того… о себе.
— О великий философ земли русской! — воскликнул Шубин. — Каждое ваше слово —
чистое золото, и не мне — вам следует воздвигнуть статую, и за это берусь я. Вот как вы
теперь лежите, в этой позе, про которую не знаешь, что в ней больше, — лени или силы? —
так я вас и отолью. Справедливым укором поразили вы мой эгоизм и мое самолюбие! Да! да!
нечего говорить о себе; нечего хвастаться. Нет еще у нас никого, нет людей, куда ни
посмотри. Все — либо мелюзга, грызуны, гамлетики, самоеды, либо темнота и глушь
подземная, либо толкачи, из пустого в порожнее переливатели да палки барабанные! А то
вот еще какие бывают: до позорной тонкости самих себя изучили, щупают беспрестанно
пульс каждому своему ощущению и докладывают самим себе: вот что я, мол, чувствую, вот
что я думаю. Полезное, дельное занятие! Нет, кабы были между нами путные люди, не ушла
бы от нас эта девушка, эта чуткая душа, не ускользнула бы, как рыба в воду! Что ж это, Увар
Иванович? Когда ж наша придет пора? Когда у нас народятся люди?
— Дай срок, — ответил Увар Иванович, — будут.
— Будут? Почва! черноземная сила! ты сказал: будут? Смотрите же, я запишу ваше
слово. Да зачем же вы гасите свечку?
— Спать хочу, прощай.
XXXI
Шубин сказал правду. Неожиданное известие о свадьбе Елены чуть не убило Анны
Васильевны. Она слегла в постель. Николай Артемьевич потребовал от нее, чтоб она не
пускала своей дочери к себе на глаза; он как будто обрадовался случаю показать себя в
полном значении хозяина дома, во всей силе главы семейства: он беспрерывно шумел и