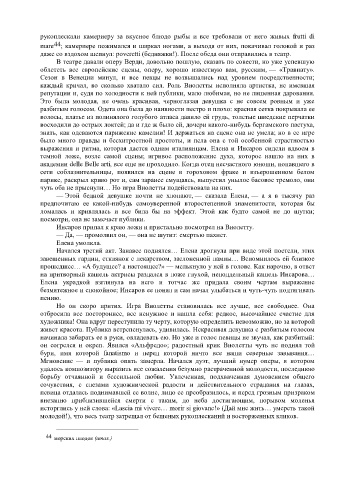Page 75 - Накануне
P. 75
рукоплескали камериеру за вкусное блюдо рыбы и все требовали от него живых frutti di
mare 44 ; камериере пожимался и шаркал ногами, а выходя от них, покачивал головой и раз
даже со вздохом шепнул: poveretti (бедняжки!). После обеда они отправились в театр.
В театре давали оперу Верди, довольно пошлую, сказать по совести, но уже успевшую
облететь все европейские сцены, оперу, хорошо известную вам, русским, — «Травиату».
Сезон в Венеции минул, и все певцы не возвышались над уровнем посредственности;
каждый кричал, во сколько хватало сил. Роль Виолетты исполняла артистка, не имевшая
репутации и, судя по холодности к ней публики, мало любимая, но не лишенная дарования.
Это была молодая, не очень красивая, черноглазая девушка с не совсем ровным и уже
разбитым голосом. Одета она была до наивности пестро и плохо: красная сетка покрывала ее
волосы, платье из полинялого голубого атласа давило ей грудь, толстые шведские перчатки
восходили до острых локтей; да и где ж было ей, дочери какого-нибудь бергамского пастуха,
знать, как одеваются парижские камелии! И держаться на сцене она не умела; но в ее игре
было много правды и бесхитростной простоты, и пела она с той особенной страстностью
выражения и ритма, которая дается одним италиянцам. Елена и Инсаров сидели вдвоем в
темной ложе, возле самой сцены; игривое расположение духа, которое нашло на них в
академии delle Belle arti, все еще не проходило. Когда отец несчастного юноши, попавшего в
сети соблазнительницы, появился на сцене в гороховом фраке и взъерошенном белом
парике, раскрыл криво рот и, сам заранее смущаясь, выпустил унылое басовое тремоло, они
чуть оба не прыснули… Но игра Виолетты подействовала на них.
— Этой бедной девушке почти не хлопают, — сказала Елена, — а я в тысячу раз
предпочитаю ее какой-нибудь самоуверенной второстепенной знаменитости, которая бы
ломалась и кривлялась и все била бы на эффект. Этой как будто самой не до шутки;
посмотри, она не замечает публики.
Инсаров припал к краю ложи и пристально посмотрел на Виолетту.
— Да, — промолвил он, — она не шутит: смертью пахнет.
Елена умолкла.
Начался третий акт. Занавес поднялся… Елена дрогнула при виде этой постели, этих
завешенных гардин, стклянок с лекарством, заслоненной лампы… Вспомнилось ей близкое
прошедшее… «А будущее? а настоящее?» — мелькнуло у ней в голове. Как нарочно, в ответ
на притворный кашель актрисы раздался в ложе глухой, неподдельный кашель Инсарова…
Елена украдкой взглянула на него и тотчас же придала своим чертам выражение
безмятежное и спокойное; Инсаров ее понял и сам начал улыбаться и чуть-чуть подтягивать
пению.
Но он скоро притих. Игра Виолетты становилась все лучше, все свободнее. Она
отбросила все постороннее, все ненужное и нашла себя: редкое, высочайшее счастие для
художника! Она вдруг переступила ту черту, которую определить невозможно, но за которой
живет красота. Публика встрепенулась, удивилась. Некрасивая девушка с разбитым голосом
начинала забирать ее в руки, овладевать ею. Но уже и голос певицы не звучал, как разбитый:
он согрелся и окреп. Явился «Альфредо»; радостный крик Виолетты чуть не поднял той
бури, имя которой fanatismo и перед которой ничто все наши северные завывания…
Мгновение — и публика опять замерла. Начался дуэт, лучший нумер оперы, в котором
удалось композитору выразить все сожаления безумно растраченной молодости, последнюю
борьбу отчаянной и бессильной любви. Увлеченная, подхваченная дуновением общего
сочувствия, с слезами художнической радости и действительного страдания на глазах,
певица отдалась поднимавшей ее волне, лицо ее преобразилось, и перед грозным призраком
внезапно приблизившейся смерти с таким, до неба достигающим, порывом моленья
исторглись у ней слова: «Lascia mi vivere… morir si giovane!» (Дай мне жить… умереть такой
молодой!), что весь театр затрещал от бешеных рукоплесканий и восторженных кликов.
44 морских плодов (итал.)