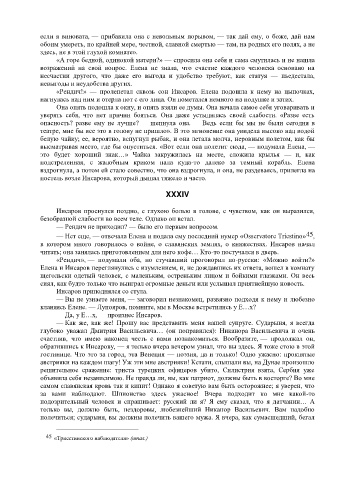Page 77 - Накануне
P. 77
если я виновата, — прибавила она с невольным порывом, — так дай ему, о боже, дай нам
обоим умереть, по крайней мере, честной, славной смертью — там, на родных его полях, а не
здесь, не в этой глухой комнате».
«А горе бедной, одинокой матери?» — спросила она себя и сама смутилась и не нашла
возражений на свой вопрос. Елена не знала, что счастие каждого человека основано на
несчастии другого, что даже его выгода и удобство требуют, как статуя — пьедестала,
невыгоды и неудобства других.
«Рендич!» — пролепетал сквозь сон Инсаров. Елена подошла к нему на цыпочках,
нагнулась над ним и отерла пот с его лица. Он пометался немного на подушке и затих.
Она опять подошла к окну, и опять взяли ее думы. Она начала самое себя уговаривать и
уверять себя, что нет причин бояться. Она даже устыдилась своей слабости. «Разве есть
опасность? разве ему не лучше? — шепнула она. — Ведь если бы мы не были сегодня в
театре, мне бы все это в голову не пришло». В это мгновение она увидела высоко над водой
белую чайку; ее, вероятно, вспугнул рыбак, и она летала молча, неровным полетом, как бы
высматривая место, где бы опуститься. «Вот если она полетит сюда, — подумала Елена, —
это будет хороший знак…» Чайка закружилась на месте, сложила крылья — и, как
подстреленная, с жалобным криком пала куда-то далеко за темный корабль. Елена
вздрогнула, а потом ей стало совестно, что она вздрогнула, и она, не раздеваясь, прилегла на
постель возле Инсарова, который дышал тяжело и часто.
XXXIV
Инсаров проснулся поздно, с глухою болью в голове, с чувством, как он выразился,
безобразной слабости во всем теле. Однако он встал.
— Рендич не приходил? — было его первым вопросом.
— Нет еще, — отвечала Елена и подала ему последний нумер «Osservatore Triestino» 45 ,
в котором много говорилось о войне, о славянских землях, о княжествах. Инсаров начал
читать; она занялась приготовлением для него кофе… Кто-то постучался в дверь.
«Рендич», — подумали оба, но стучавший проговорил по-русски: «Можно войти?»
Елена и Инсаров переглянулись с изумлением, и, не дождавшись их ответа, вошел в комнату
щегольски одетый человек, с маленьким, остреньким лицом и бойкими глазками. Он весь
сиял, как будто только что выиграл огромные деньги или услышал приятнейшую новость.
Инсаров приподнялся со стула.
— Вы не узнаете меня, — заговорил незнакомец, развязно подходя к нему и любезно
кланяясь Елене. — Лупояров, помните, мы в Москве встретились у Е…х?
— Да, у Е…х, — произнес Инсаров.
— Как же, как же! Прошу вас представить меня вашей супруге. Сударыня, я всегда
глубоко уважал Дмитрия Васильевича… (он поправился): Никанора Васильевича и очень
счастлив, что имею наконец честь с вами познакомиться. Вообразите, — продолжал он,
обратившись к Инсарову, — я только вчера вечером узнал, что вы здесь. Я тоже стою в этой
гостинице. Что это за город, эта Венеция — поэзия, да и только! Одно ужасно: проклятые
австрияки на каждом шагу! Уж эти мне австрияки! Кстати, слышали вы, на Дунае произошло
решительное сражение: триста турецких офицеров убито, Силистрия взята, Сербия уже
объявила себя независимою. Не правда ли, вы, как патриот, должны быть в восторге? Во мне
самом славянская кровь так и кипит! Однако я советую вам быть осторожнее; я уверен, что
за вами наблюдают. Шпионство здесь ужасное! Вчера подходит ко мне какой-то
подозрительный человек и спрашивает: русский ли я? Я ему сказал, что я датчанин… А
только вы, должно быть, нездоровы, любезнейший Никанор Васильевич. Вам надобно
полечиться; сударыня, вы должны полечить вашего мужа. Я вчера, как сумасшедший, бегал
45 «Триестинского наблюдателя» (итал.)