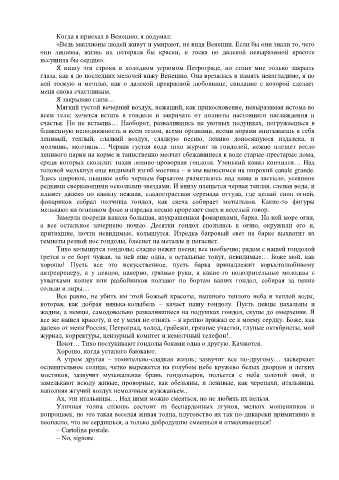Page 345 - Рассказы
P. 345
Когда я приехал в Венецию, я подумал:
«Ведь миллионы людей живут и умирают, не видя Венеции. Если бы они знали то, чего
они лишены, жизнь их потеряла бы краски, и тоска по далекой невыразимой красоте
иссушила бы сердце».
Я пишу эти строки в холодном угрюмом Петрограде, но стоит мне только закрыть
глаза, как я до последних мелочей вижу Венецию. Она врезалась в память неизгладимо, я по
ней тоскую и мечтаю, как о далекой прекрасной любовнице, свидание с которой сделает
меня снова счастливым.
Я закрываю глаза…
Мягкий густой вечерний воздух, нежащий, как прикосновение, невыразимая истома во
всем теле; хочется встать в гондоле и закричать от полноты настоящего наслаждения и
счастья. Но не встаешь… Наоборот, развалившись на уютных подушках, погружаешься в
блаженную неподвижность и всем телом, всеми органами, всеми порами впитываешь в себя
ленивый, теплый, сладкий воздух, сладкую песню, лениво доносящуюся издалека, и
молчишь, молчишь… Черная густая вода тихо журчит за гондолой, нежно плещет весло
ленивого парня на корме и таинственно молчат сбежавшиеся к воде старые-престарые дома,
среди которых скользит тихая лениво-проворная гондола. Узенький канал кончился… Над
головой мелькнул еще видимый изгиб мостика – и мы выносимся на широкий canale grande.
Здесь широкое, пышное небо черным бархатом разметалось над нами и застыло, усеянное
редкими сверкающими осколками-звездами. И внизу плещется черная теплая, слепая вода, и
плывет далеко по каналу нежная, сладострастная серенада оттуда, где целый сноп огней,
фонариков собрал полчища гондол, как свеча собирает мотыльков. Какие-то фигуры
мелькают на огненном фоне и изредка песню прорезает смех и веселый говор.
Замерла посреди канала большая, изукрашенная фонариками, барка. На ней море огня,
а все остальное зачернено ночью. Десятки гондол сползлись к огню, окружили его и,
притихшие, почти невидимые, колышутся. Изредка багровый свет на барке выхватит из
темноты резной нос гондолы, блеснет на металле и погаснет.
Тихо колышутся гондолы; сладко нежит песня; все необычно; рядом с нашей гондолой
трется о ее борт чужая, за ней еще одна, а остальные тонут, невидимые… Боже мой, как
хорошо! Пусть все это искусственное, пусть барка принадлежит корыстолюбивому
антрепренеру, а у певцов, наверно, грязные руки, а какие-то подозрительные молодцы с
ухватками кошек или разбойников ползают по бортам ваших гондол, собирая за пение
сольди и лиры…
Все равно, не убить им этой Божьей красоты, пышного теплого неба и теплой воды,
которая, как добрая нянька-колыбель – качает нашу гондолу. Пусть певцы нахальны и
жадны, а немцы, самодовольно развалившиеся на подушках гондол, скупы до омерзения. Я
все же нашел красоту, и ее у меня не отнять – я крепко прижал ее к моему сердцу. Боже, как
далеко от меня Россия, Петроград, холод, грабежи, грязные участки, глупые октябристы, мой
журнал, корректуры, цензурный комитет и немолчный телефон!..
Поют… Тихо постукивают гондолы боками одна о другую. Качаются.
Хорошо, когда усталого баюкают.
А утром другая – томительно-сладкая жизнь; зазвучит все по-другому… засверкает
ослепительное солнце, четко вырежется на голубом небе кружево белых дворцов и легких
мостиков, зазвучит музыкальная брань гондольеров, польется с неба золотой зной, и
замелькают всюду живые, проворные, как обезьяны, и ленивые, как черепахи, итальянцы,
наполняя жгучий воздух немолчным жужжаньем..
Ах, эти итальянцы… Над ними можно смеяться, но не любить их нельзя.
Уличная толпа сплошь состоит из беспардонных лгунов, мелких мошенников и
попрошаек, но это такая веселая живая толпа, плутовство их так по-дикарски примитивно и
неопасно, что не сердишься, а только добродушно смеешься и отмахиваешься!
– Cartolina postale.
– No, signore.