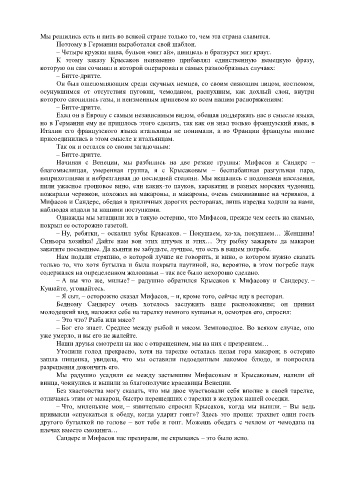Page 347 - Рассказы
P. 347
Мы решились есть и пить во всякой стране только то, чем эта страна славится.
Поэтому в Германии выработался свой шаблон.
– Четыре кружки пива, бульон «мит ай», шницель и братвурст мит краут.
К этому заказу Крысаков неизменно прибавлял единственную немецкую фразу,
которую он сам сочинил и которой оперировал в самых разнообразных случаях:
– Битте-дритте.
Он был ошеломляющим среди скучных немцев, со своим сияющим лицом, костюмом,
осунувшимся от отсутствия пуговиц, чемоданом, распухшим, как дохлый слон, внутри
которого скопились газы, и неизменным припевом ко всем нашим распоряжениям:
– Битте-дритте.
Ехал он в Европу с самым независимым видом, обещая поддержать нас в смысле языка,
но в Германии ему не пришлось этого сделать, так как он знал только французский язык, в
Италии его французского языка итальянцы не понимали, а во Франции французы вполне
присоединились в этом смысле к итальянцам.
Так он и остался со своим загадочным:
– Битте-дритте.
Начиная с Венеции, мы разбились на две резкие группы: Мифасов и Сандерс –
благомыслящая, умеренная группа, я с Крысаковым – бесшабашная разгульная пара,
неприхотливая и небрезгливая до последней степени. Мы якшались с подонками населения,
пили ужасное грошовое вино, ели каких-то пауков, каракатиц и разных морских чудовищ,
пожирали червяков, похожих на макароны, и макароны, очень смахивавшие на червяков, а
Мифасов и Сандерс, обедая в приличных дорогих ресторанах, лишь изредка ходили за нами,
наблюдая издали за нашими поступками.
Однажды мы затащили их в такую остерию, что Мифасов, прежде чем сесть на скамью,
покрыл ее осторожно газетой.
– Ну, ребятки, – оскалил зубы Крысаков. – Покушаем, ха-ха, покушаем… Женщина!
Синьора хозяйка! Дайте нам вон этих штучек и этих… Эту рыбку зажарьте да макарон
закатите посмешнее. Да кьянти не забудьте, лучшее, что есть в вашем погребе.
Нам подали стряпню, о которой лучше не говорить, и вино, о котором нужно сказать
только то, что хотя бутылка и была покрыта паутиной, но, вероятно, в этом погребе паук
содержался на определенном жалованьи – так все было нехорошо сделано.
– А вы что же, милые? – радушно обратился Крысаков к Мифасову и Сандерсу. –
Кушайте, угощайтесь.
– Я сыт, – осторожно сказал Мифасов, – и, кроме того, сейчас иду в ресторан.
Бедному Сандерсу очень хотелось заслужить наше расположение; он принял
молодецкий вид, наложил себе на тарелку немного кушанья и, осмотрев его, спросил:
– Это что? Рыба или мясо?
– Бог его знает. Среднее между рыбой и мясом. Земноводное. Во всяком случае, оно
уже умерло, и вы его не жалейте.
Наши друзья смотрели на нас с отвращением, мы на них с презрением…
Утолили голод прекрасно, хотя на тарелке осталась целая гора макарон; в остерию
зашла нищенка, увидела, что мы оставили недоеденным лакомое блюдо, и попросила
разрешения докончить его.
Мы радушно усадили ее между застывшим Мифасовым и Крысаковым, налили ей
винца, чокнулись и выпили за благополучие красавицы Венеции.
Без хвастовства могу сказать, что мы двое чувствовали себя вполне в своей тарелке,
отличаясь этим от макарон, быстро перешедших с тарелки в желудок нашей соседки.
– Что, миленькие мои, – язвительно спросил Крысаков, когда мы вышли. – Вы ведь
привыкли «спускаться к обеду, когда ударит гонг»? Здесь это проще: трахнет один гость
другого бутылкой по голове – вот тебе и гонг. Можешь обедать с чехлом от чемодана на
плечах вместо смокинга…
Сандерс и Мифасов нас презирали, не скрываясь – это было ясно.