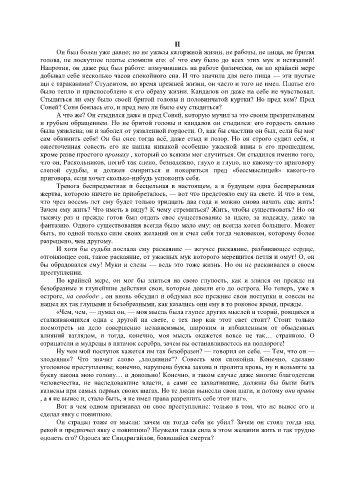Page 280 - Преступление и наказание
P. 280
II
Он был болен уже давно; но не ужасы каторжной жизни, не работы, не пища, не бритая
голова, не лоскутное платье сломили его: о! что ему было до всех этих мук и истязаний!
Напротив, он даже рад был работе: измучившись на работе физически, он по крайней мере
добывал себе несколько часов спокойного сна. И что значила для него пища — эти пустые
щи с тараканами? Студентом, во время прежней жизни, он часто и того не имел. Платье его
было тепло и приспособлено к его образу жизни. Кандалов он даже на себе не чувствовал.
Стыдиться ли ему было своей бритой головы и половинчатой куртки? Но пред кем? Пред
Соней? Соня боялась его, и пред нею ли было ему стыдиться?
А что же? Он стыдился даже и пред Соней, которую мучил за это своим презрительным
и грубым обращением. Но не бритой головы и кандалов он стыдился: его гордость сильно
была уязвлена; он и заболел от уязвленной гордости. О, как бы счастлив он был, если бы мог
сам обвинить себя! Он бы снес тогда всё, даже стыд и позор. Но он строго судил себя, и
ожесточенная совесть его не нашла никакой особенно ужасной вины в его прошедшем,
кроме разве простого промаху , который со всяким мог случиться. Он стыдился именно того,
что он, Раскольников, погиб так слепо, безнадежно, глухо и глупо, по какому-то приговору
слепой судьбы, и должен смириться и покориться пред «бессмыслицей» какого-то
приговора, если хочет сколько-нибудь успокоить себя.
Тревога беспредметная и бесцельная в настоящем, а в будущем одна беспрерывная
жертва, которою ничего не приобреталось, — вот что предстояло ему на свете. И что в том,
что чрез восемь лет ему будет только тридцать два года и можно снова начать еще жить!
Зачем ему жить? Что иметь в виду? К чему стремиться? Жить, чтобы существовать? Но он
тысячу раз и прежде готов был отдать свое существование за идею, за надежду, даже за
фантазию. Одного существования всегда было мало ему; он всегда хотел большего. Может
быть, по одной только силе своих желаний он и счел себя тогда человеком, которому более
разрешено, чем другому.
И хотя бы судьба послала ему раскаяние — жгучее раскаяние, разбивающее сердце,
отгоняющее сон, такое раскаяние, от ужасных мук которого мерещится петля и омут! О, он
бы обрадовался ему! Муки и слезы — ведь это тоже жизнь. Но он не раскаивался в своем
преступлении.
По крайней мере, он мог бы злиться на свою глупость, как и злился он прежде на
безобразные и глупейшие действия свои, которые довели его до острога. Но теперь, уже в
остроге, на свободе , он вновь обсудил и обдумал все прежние свои поступки и совсем не
нашел их так глупыми и безобразными, как казались они ему в то роковое время, прежде.
«Чем, чем, — думал он, — моя мысль была глупее других мыслей и теорий, роящихся и
сталкивающихся одна с другой на свете, с тех пор как этот свет стоит? Стоит только
посмотреть на дело совершенно независимым, широким и избавленным от обыденных
влияний взглядом, и тогда, конечно, моя мысль окажется вовсе не так… странною. О
отрицатели и мудрецы в пятачок серебра, зачем вы останавливаетесь на полдороге!
Ну чем мой поступок кажется им так безобразен? — говорил он себе. — Тем, что он —
злодеяние? Что значит слово „злодеяние“? Совесть моя спокойна. Конечно, сделано
уголовное преступление; конечно, нарушена буква закона и пролита кровь, ну и возьмите за
букву закона мою голову… и довольно! Конечно, в таком случае даже многие благодетели
человечества, не наследовавшие власти, а сами ее захватившие, должны бы были быть
казнены при самых первых своих шагах. Но те люди вынесли свои шаги, и потому они правы
, а я не вынес и, стало быть, я не имел права разрешить себе этот шаг».
Вот в чем одном признавал он свое преступление: только в том, что не вынес его и
сделал явку с повинною.
Он страдал тоже от мысли: зачем он тогда себя не убил? Зачем он стоял тогда над
рекой и предпочел явку с повинною? Неужели такая сила в этом желании жить и так трудно
одолеть его? Одолел же Свидригайлов, боявшийся смерти?