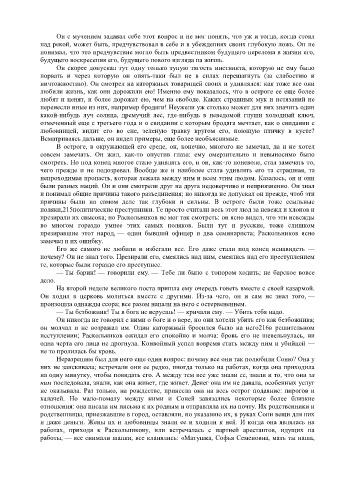Page 281 - Преступление и наказание
P. 281
Он с мучением задавал себе этот вопрос и не мог понять, что уж и тогда, когда стоял
над рекой, может быть, предчувствовал в себе и в убеждениях своих глубокую ложь. Он не
понимал, что это предчувствие могло быть предвестником будущего перелома в жизни его,
будущего воскресения его, будущего нового взгляда на жизнь.
Он скорее допускал тут одну только тупую тягость инстинкта, которую не ему было
порвать и через которую он опять-таки был не в силах перешагнуть (за слабостию и
ничтожностию). Он смотрел на каторжных товарищей своих и удивлялся: как тоже все они
любили жизнь, как они дорожили ею! Именно ему показалось, что в остроге ее еще более
любят и ценят, и более дорожат ею, чем на свободе. Каких страшных мук и истязаний не
перенесли иные из них, например бродяги! Неужели уж столько может для них значить один
какой-нибудь луч солнца, дремучий лес, где-нибудь в неведомой глуши холодный ключ,
отмеченный еще с третьего года и о свидании с которым бродяга мечтает, как о свидании с
любовницей, видит его во сне, зеленую травку кругом его, поющую птичку в кусте?
Всматриваясь дальше, он видел примеры, еще более необъяснимые.
В остроге, в окружающей его среде, он, конечно, многого не замечал, да и не хотел
совсем замечать. Он жил, как-то опустив глаза: ему омерзительно и невыносимо было
смотреть. Но под конец многое стало удивлять его, и он, как-то поневоле, стал замечать то,
чего прежде и не подозревал. Вообще же и наиболее стала удивлять его та страшная, та
непроходимая пропасть, которая лежала между ним и всем этим людом. Казалось, он и они
были разных наций. Он и они смотрели друг на друга недоверчиво и неприязненно. Он знал
и понимал общие причины такого разъединения; но никогда не допускал он прежде, чтоб эти
причины были на самом деле так глубоки и сильны. В остроге были тоже ссыльные
поляки,215политические преступники. Те просто считали весь этот люд за невежд и хлопов и
презирали их свысока; но Раскольников не мог так смотреть: он ясно видел, что эти невежды
во многом гораздо умнее этих самых поляков. Были тут и русские, тоже слишком
презиравшие этот народ, — один бывший офицер и два семинариста; Раскольников ясно
замечал и их ошибку.
Его же самого не любили и избегали все. Его даже стали под конец ненавидеть —
почему? Он не знал того. Презирали его, смеялись над ним, смеялись над его преступлением
те, которые были гораздо его преступнее.
— Ты барин! — говорили ему. — Тебе ли было с топором ходить; не барское вовсе
дело.
На второй неделе великого поста пришла ему очередь говеть вместе с своей казармой.
Он ходил в церковь молиться вместе с другими. Из-за чего, он и сам не знал того, —
произошла однажды ссора; все разом напали на него с остервенением.
— Ты безбожник! Ты в бога не веруешь! — кричали ему. — Убить тебя надо.
Он никогда не говорил с ними о боге и о вере, но они хотели убить его как безбожника;
он молчал и не возражал им. Один каторжный бросился было на него216в решительном
исступлении; Раскольников ожидал его спокойно и молча: бровь его не шевельнулась, ни
одна черта его лица не дрогнула. Конвойный успел вовремя стать между ним и убийцей —
не то пролилась бы кровь.
Неразрешим был для него еще один вопрос: почему все они так полюбили Соню? Она у
них не заискивала; встречали они ее редко, иногда только на работах, когда она приходила
на одну минутку, чтобы повидать его. А между тем все уже знали ее, знали и то, что она за
ним последовала, знали, как она живет, где живет. Денег она им не давала, особенных услуг
не оказывала. Раз только, на рождестве, принесла она на весь острог подаяние: пирогов и
калачей. Но мало-помалу между ними и Соней завязались некоторые более близкие
отношения: она писала им письма к их родным и отправляла их на почту. Их родственники и
родственницы, приезжавшие в город, оставляли, по указанию их, в руках Сони вещи для них
и даже деньги. Жены их и любовницы знали ее и ходили к ней. И когда она являлась на
работах, приходя к Раскольникову, или встречалась с партией арестантов, идущих на
работы, — все снимали шапки, все кланялись: «Матушка, Софья Семеновна, мать ты наша,