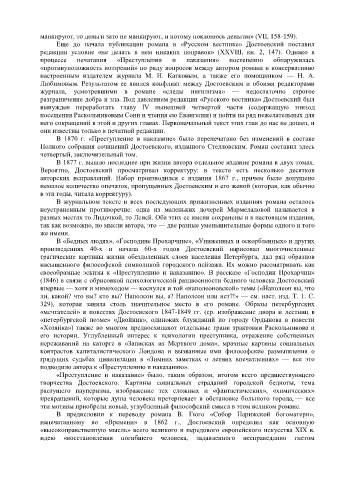Page 290 - Преступление и наказание
P. 290
манкируют, то деньги зато не манкируют, и потому поклонюсь деньгам» (VII, 158-159).
Еще до начала публикации романа в «Русском вестнике» Достоевский поставил
редакции условие «не делать в нем никаких поправок» (XXVIII, кн. 2, 147). Однако в
процессе печатания «Преступления и наказания» постепенно обнаружилась
«противуположность воззрений» по ряду вопросов между автором романа и консервативно
настроенным издателем журнала M. H. Катковым, а также его помощником — Н. А.
Любимовым. Результатом ее явился конфликт между Достоевским и обоими редакторами
журнала, усмотревшими в романе «следы нигилизма» — недостаточно строгое
разграничение добра и зла. Под давлением редакции «Русского вестника» Достоевский был
вынужден переработать главу IV нынешней четвертой части (содержащую эпизод
посещения Раскольниковым Сони и чтения ею Евангелия) и пойти на ряд нежелательных для
него сокращений в этой и других главах. Первоначальный текст этих глав до нас не дошел, и
они известны только в печатной редакции.
В 1870 г. «Преступление и наказание» было перепечатано без изменений в составе
Полного собрания сочинений Достоевского, изданного Стелловским. Роман составил здесь
четвертый, заключительный том.
В 1877 г. вышло последнее при жизни автора отдельное издание романа в двух томах.
Вероятно, Достоевский просматривал корректуру: в тексте есть несколько десятков
авторских исправлений. Набор производился с издания 1867 г., причем было допущено
немалое количество опечаток, пропущенных Достоевским и его женой (которая, как обычно
в эти годы, читала корректуру).
В журнальном тексте и всех последующих прижизненных изданиях романа осталось
неустраненным противоречие: одна из маленьких дочерей Мармеладовой называется в
разных местах то Лидочкой, то Леней. Оба этих ее имени сохранены и в настоящем издании,
так как возможно, по мысли автора, это — две разные уменьшительные формы одного и того
же имени.
В «Бедных людях», «Господине Прохарчине», «Униженных и оскорбленных» и других
произведениях 40-х и начала 60-х годов Достоевский нарисовал многочисленные
трагические картины жизни обездоленных слоев населения Петербурга, дал ряд образцов
насыщенного философской символикой городского пейзажа. Их можно рассматривать как
своеобразные эскизы к «Преступлению и наказанию». В рассказе «Господин Прохарчин»
(1846) в связи с обрисовкой психологической раздвоенности бедного человека Достоевский
впервые — хотя и мимоходом — коснулся и той «наполеоновской» темы («Наполеон вы, что
ли, какой? что вы? кто вы? Наполеон вы, а? Наполеон или нет?!» — см. наст. изд. Т. 1. С.
329), которая заняла столь значительное место в его романе. Образы петербургских
«мечтателей» в повестях Достоевского 1847-1849 гг. (ср. изображение двора и лестниц в
«петербургской поэме» «Двойник», одиноких блужданий по городу Ордынова в повести
«Хозяйка») также во многом предвосхищают отдельные грани трактовки Раскольникова и
его истории. Углубленный интерес к психологии преступника, отражение собственных
переживаний на каторге в «Записках из Мертвого дома», мрачные картины социальных
контрастов капиталистического Лондона и вызванные ими философские размышления о
грядущих судьбах цивилизации в «Зимних заметках о летних впечатлениях» — все это
подводило автора к «Преступлению и наказанию».
«Преступление и наказание» было, таким образом, итогом всего предшествующего
творчества Достоевского. Картины социальных страданий городской бедноты, тема
растущего пауперизма, изображение тех сложных и «фантастических», «химических»
превращений, которые душа человека претерпевает в обстановке большого города, — все
эти мотивы приобрели новый, углубленный философский смысл в этом великом романе.
В предисловии к переводу романа В. Гюго «Собор Парижской богоматери»,
напечатанному во «Времени» в 1862 г., Достоевский определил как основную
«высоконравственную мысль» всего великого и передового европейского искусства XIX в.
идею «восстановления погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом