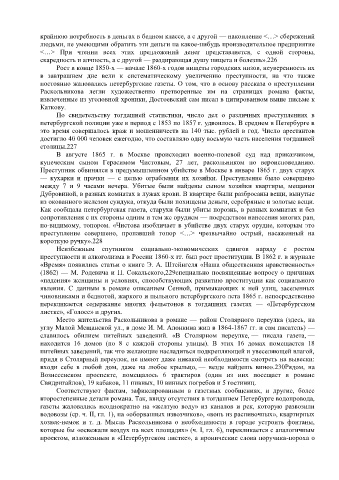Page 292 - Преступление и наказание
P. 292
крайнюю потребность в деньгах в бедном классе, а с другой — накопление <…> сбережений
людьми, не умеющими обратить эти деньги на какое-нибудь производительное предприятие
<…> При чтении всех этих предложений денег представляется, с одной стороны,
скаредность и алчность, а с другой — раздирающая душу нищета и болезнь».226
Рост в конце 1850-х — начале 1860-х годов нищеты городских низов, неуверенность их
в завтрашнем дне вели к систематическому увеличению преступности, на что также
постоянно жаловались петербургские газеты. О том, что в основу рассказа о преступлении
Раскольникова легли художественно претворенные им на страницах романа факты,
извлеченные из уголовной хроники, Достоевский сам писал в цитированном выше письме к
Каткову.
По свидетельству тогдашней статистики, число дел о различных преступлениях в
петербургской полиции уже в период с 1853 по 1857 г. удвоилось. В среднем в Петербурге в
это время совершалось краж и мошенничеств на 140 тыс. рублей в год. Число арестантов
достигло 40 000 человек ежегодно, что составляло одну восьмую часть населения тогдашней
столицы.227
В августе 1865 г. в Москве происходил военно-полевой суд над приказчиком,
купеческим сыном Герасимом Чистовым, 27 лет, раскольником по вероисповеданию.
Преступник обвинялся в предумышленном убийстве в Москве в январе 1865 г. двух старух
— кухарки и прачки — с целью ограбления их хозяйки. Преступление было совершено
между 7 и 9 часами вечера. Убитые были найдены сыном хозяйки квартиры, мещанки
Дубровиной, в разных комнатах в лужах крови. В квартире были разбросаны вещи, вынутые
из окованного железом сундука, откуда были похищены деньги, серебряные и золотые вещи.
Как сообщала петербургская газета, старухи были убиты порознь, в разных комнатах и без
сопротивления с их стороны одним и тем же орудием — посредством нанесения многих ран,
по-видимому, топором. «Чистова изобличает в убийстве двух старух орудие, которым это
преступление совершено, пропавший топор <…> чрезвычайно острый, насаженный на
короткую ручку».228
Неизбежным спутником социально-экономических сдвигов наряду с ростом
преступности и алкоголизма в России 1860-х гг. был рост проституции. В 1862 г. в журнале
«Время» появились статьи о книге Э. А. Штейнгеля «Наша общественная нравственность»
(1862) — М. Родевича и П. Сокальского,229специально посвященные вопросу о причинах
«падения» женщины и условиях, способствующих развитию проституции как социального
явления. С данным в романе описанием Сенной, примыкающих к ней улиц, заселенных
чиновниками и беднотой, жаркого и пыльного петербургского лета 1865 г. непосредственно
перекликается содержание многих фельетонов в тогдашних газетах — «Петербургском
листке», «Голосе» и других.
Место жительства Раскольникова в романе — район Столярного переулка (здесь, на
углу Малой Мещанской ул., в доме И. М. Алонкина жил в 1864-1867 гг. и сам писатель) —
славилось обилием питейных заведений. «В Столярном переулке, — писала газета, —
находится 16 домов (по 8 с каждой стороны улицы). В этих 16 домах помещается 18
питейных заведений, так что желающие насладиться подкрепляющей и увеселяющей влагой,
придя в Столярный переулок, не имеют даже никакой необходимости смотреть на вывески:
входи себе в любой дом, даже на любое крыльцо, — везде найдешь вино».230Рядом, на
Вознесенском проспекте, помещалось 6 трактиров (один из них посещает в романе
Свидригайлов), 19 кабаков, 11 пивных, 10 винных погребов и 5 гостиниц.
Соответствуют фактам, зафиксированным в газетных сообщениях, и другие, более
второстепенные детали романа. Так, ввиду отсутствия в тогдашнем Петербурге водопровода,
газеты жаловались неоднократно на «желтую воду» из каналов и рек, которую развозили
водовозы (ср. ч. II, гл. 1), на «оборванных извозчиков», «вонь из распивочных», квартирных
хозяек-немок и т. д. Мысль Раскольникова о необходимости в городе устроить фонтаны,
которые бы «освежали воздух на всех площадях» (ч. I, гл. 6), перекликается с аналогичным
проектом, изложенным в «Петербургском листке», а иронические слова поручика-пороха о