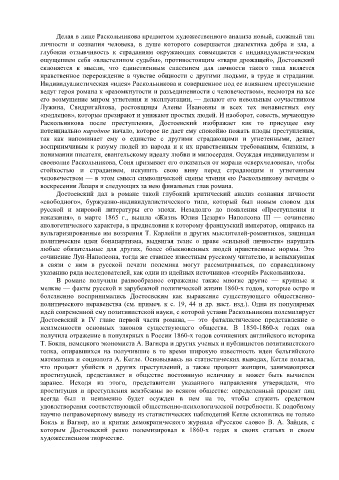Page 296 - Преступление и наказание
P. 296
Делая в лице Раскольникова предметом художественного анализа новый, сложный тип
личности и сознания человека, в душе которого совершается диалектика добра и зла, а
глубокая отзывчивость к страданиям окружающих совмещается с индивидуалистическим
ощущением себя «властелином судьбы», противостоящим «твари дрожащей», Достоевский
склоняется к мысли, что единственным спасением для личности такого типа является
нравственное перерождение в чувстве общности с другими людьми, в труде и страдании.
Индивидуалистическая «идея» Раскольникова и совершенное под ее влиянием преступление
ведут героя романа к «разомкнутости и разъединенности с человечеством», несмотря на все
его возмущение миром угнетения и эксплуатации, — делают его невольным соучастником
Лужина, Свидригайлова, ростовщицы Алены Ивановны и всех тех ненавистных ему
«подлецов», которые презирают и унижают простых людей. И наоборот, совесть, мучающую
Раскольникова после преступления, Достоевский изображает как то присущее ему
потенциально народное начало, которое не дает ему спокойно пожать плоды преступления,
так как напоминает ему о единстве с другими страдающими и угнетенными, делает
восприимчивым к разуму людей из народа и к их нравственным требованиям, близким, в
понимании писателя, евангельскому идеалу любви и милосердия. Осуждая индивидуализм и
своеволие Раскольникова, Соня призывает его отказаться от морали «сверхчеловека», чтобы
стойкостью и страданием, искупить свою вину перед страдающим и угнетенным
человечеством — в этом смысл символической сцены чтения ею Раскольникову легенды о
воскресении Лазаря и следующих за нею финальных глав романа.
Достоевский дал в романе такой глубокий критический анализ сознания личности
«свободного», буржуазно-индивидуалистического типа, который был новым словом для
русской и мировой литературы его эпохи. Незадолго до появления «Преступления и
наказания», в марте 1865 г., вышла «Жизнь Юлия Цезаря» Наполеона III — сочинение
апологетического характера, в предисловии к которому французский император, опираясь на
вульгаризированные им воззрения Т. Карлейля и других мыслителей-романтиков, защищал
политические идеи бонапартизма, выдвигая тезис о праве «сильной личности» нарушать
любые обязательные для других, более обыкновенных людей нравственные нормы. Это
сочинение Луи-Наполеона, тогда же ставшее известным русскому читателю, и вспыхнувшая
в связи с ним в русской печати полемика могут рассматриваться, по справедливому
указанию ряда исследователей, как один из идейных источников «теорий» Раскольникова.
В романе получили разнообразное отражение также многие другие — крупные и
мелкие — факты русской и зарубежной политической жизни 1860-х годов, которые остро и
болезненно воспринимались Достоевским как выражение существующего общественно-
политического неравенства (см. примеч. к с. 19, 44 и др. наст. изд.). Одна из популярных
идей современной ему позитивистской науки, с которой устами Раскольникова полемизирует
Достоевский в IV главе первой части романа, — это фаталистическое представление о
неизменности основных законов существующего общества. В 1850-1860-х годах она
получила отражение в популярных в России 1860-х годов сочинениях английского историка
Т. Бокля, немецкого экономиста А. Вагнера и других ученых и публицистов позитивистского
толка, опиравшихся на получившие в то время широкую известность идеи бельгийского
математика и социолога А. Кегле. Основываясь на статистических выводах, Кетле полагал,
что процент убийств и других преступлений, а также процент женщин, занимающихся
проституцией, представляет в обществе постоянную величину и может быть вычислен
заранее. Исходя из этого, представители указанного направления утверждали, что
проституция и преступления неизбежны во всяком обществе: определенный процент лиц
всегда был и неизменно будет осужден в нем на то, чтобы служить средством
удовлетворения соответствующей общественно-психологической потребности. К подобному
научно неправомерному выводу из статистических наблюдений Кетле склонялись не только
Бокль и Вагнер, но и критик демократического журнала «Русское слово» В. А. Зайцев, с
которым Достоевский резко полемизировал в 1860-х годах в своих статьях и своем
художественном творчестве.