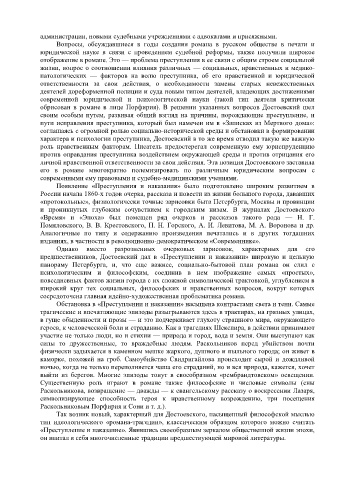Page 298 - Преступление и наказание
P. 298
администрации, новыми судебными учреждениями с адвокатами и присяжными.
Вопросы, обсуждавшиеся в годы создания романа в русском обществе в печати и
юридической науке в связи с проведением судебной реформы, также получили широкое
отображение в романе. Это — проблема преступления в ее связи с общим строем социальной
жизни, вопрос о соотношении влияния различных — социальных, нравственных и медико-
патологических — факторов на волю преступника, об его нравственной и юридической
ответственности за свои действия, о необходимости замены старых невежественных
деятелей дореформенной полиции и суда новым типом деятелей, владеющих достижениями
современной юридической и психологической науки (такой тип деятеля критически
обрисован в романе в лице Порфирия). В решении указанных вопросов Достоевский шел
своим особым путем, развивая общий взгляд на причины, порождающие преступление, и
пути исправления преступника, который был намечен им в «Записках из Мертвого дома»:
соглашаясь с огромной ролью социально-исторической среды и обстановки в формировании
характера и психологии преступника, Достоевский в то же время отводил такую же важную
роль нравственным факторам. Писатель предостерегал современную ему юриспруденцию
против оправдания преступника воздействием окружающей среды и против отрицания его
личной нравственной ответственности за свои действия. Эта позиция Достоевского заставила
его в романе многократно полемизировать по различным юридическим вопросам с
современными ему правовыми и судебно-медицинскими учениями.
Появление «Преступления и наказания» было подготовлено широким развитием в
России начала 1860-х годов очерка, рассказа и повести из жизни большого города, дававших
«протокольные», физиологически точные зарисовки быта Петербурга, Москвы и провинции
и проникнутых глубоким сочувствием к городским низам. В журналах Достоевского
«Время» и «Эпоха» был помещен ряд очерков и рассказов такого рода — Н. Г.
Помяловского, В. В. Крестовского, П. Н. Горского, А. И. Левитова, М. А. Воронова и др.
Аналогичные по типу и содержанию произведения печатались и в других тогдашних
изданиях, в частности в революционно-демократическом «Современнике».
Однако вместо разрозненных очерковых зарисовок, характерных для его
предшественников, Достоевский дал в «Преступлении и наказании» широкую и цельную
панораму Петербурга, и, что еще важнее, социально-бытовой план романа он слил с
психологическим и философским, соединив в нем изображение самых «простых»,
повседневных фактов жизни города с их сложной символической трактовкой, углублением в
широкий круг тех социальных, философских и нравственных вопросов, вокруг которых
сосредоточена главная идейно-художественная проблематика романа.
Обстановка в «Преступлении и наказании» насыщена контрастами света и тени. Самые
трагические и впечатляющие эпизоды разыгрываются здесь в трактирах, на грязных улицах,
в гуще обыденности и прозы — и это подчеркивает глухоту страшного мира, окружающего
героев, к человеческой боли и страданию. Как в трагедиях Шекспира, в действии принимают
участие не только люди, но и стихии — природа и город, вода и земля. Они выступают как
силы то дружественные, то враждебные людям. Раскольников перед убийством почти
физически задыхается в каменном мешке жаркого, душного и пыльного города; он живет в
каморке, похожей на гроб. Самоубийство Свидригайлова происходит сырой и дождливой
ночью, когда не только переполняется чаша его страданий, но и вся природа, кажется, хочет
выйти из берегов. Многие эпизоды тонут в своеобразном «рембрандтовском» освещении.
Существенную роль играют в романе также философские и числовые символы (сны
Раскольникова, возвращение — дважды — к евангельскому рассказу о воскресении Лазаря,
символизирующее способность героя к нравственному возрождению, три посещения
Раскольниковым Порфирия и Сони и т. д.).
Так возник новый, характерный для Достоевского, насыщенный философской мыслью
тип идеологического «романа-трагедии», классическим образцом которого можно считать
«Преступление и наказание». Явившись своеобразным зеркалом общественной жизни эпохи,
он впитал в себя многочисленные традиции предшествующей мировой литературы.