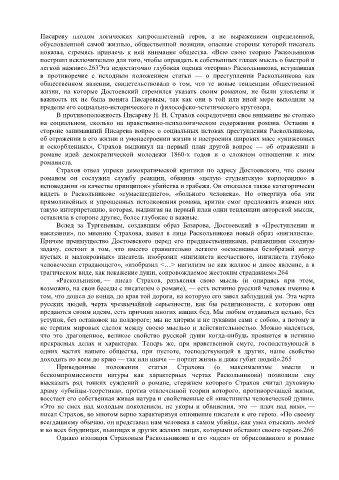Page 307 - Преступление и наказание
P. 307
Писареву плодом логических хитросплетений героя, а не выражением определенной,
обусловленной самой жизнью, общественной позиции, опасные стороны которой писатель
показал, стремясь привлечь к ней внимание общества. «Всю свою теорию Раскольников
построил исключительно для того, чтобы оправдать в собственных глазах мысль о быстрой и
легкой наживе».263Эта недостаточно глубокая оценка «теории» Раскольникова, вступавшая
в противоречие с исходным положением статьи — о преступлении Раскольникова как
общественном явлении, свидетельствовала о том, что те новые тенденции общественной
жизни, на которые Достоевский стремился указать своим романом, не были уловлены и
важность их не была понята Писаревым, так как они в той или иной мере выходили за
пределы его социально-исторического и философско-эстетического кругозора.
В противоположность Писареву H. H. Страхов сосредоточил свое внимание не столько
на социальном, сколько на нравственно-психологическом содержании романа. Оставив в
стороне занимавший Писарева вопрос о социальных истоках преступления Раскольникова,
об отражении в его жизни и умонастроении жизни и настроения широких масс «униженных
и оскорбленных», Страхов выдвинул на первый план другой вопрос — об отражении в
романе идей демократической молодежи 1860-х годов и о сложном отношении к ним
романиста.
Страхов отвел упреки демократической критики по адресу Достоевского, что своим
романом он сослужил службу реакции, обвинив «целую студентскую корпорацию» в
исповедании «в качестве принципов» убийства и грабежа. Он отказался также категорически
видеть в Раскольникове «сумасшедшего», «больного человека». Но отвергнув оба эти
прямолинейных и упрощенных истолкования романа, критик смог предложить взамен них
такую интерпретацию, которая, выдвигая на первый план одни тенденции авторской мысли,
оставляла в стороне другие, более глубокие и важные.
Вслед за Тургеневым, создавшим образ Базарова, Достоевский в «Преступлении и
наказании», по мнению Страхова, вывел в лице Раскольникова новый образ «нигилиста».
Причем преимущество Достоевского перед его предшественниками, решавшими сходную
задачу, состоит в том, что вместо сравнительно легкого «осмеиванья безобразий натур
пустых и малокровных» писатель изобразил «нигилиста несчастного, нигилиста глубоко
человечески страдающего», «изобразил <…> нигилизм не как жалкое и дикое явление, а в
трагическом виде, как искажение души, сопровождаемое жестоким страданием».264
«Раскольников, — писал Страхов, разъясняя свою мысль (и опираясь при этом,
возможно, на свои беседы с писателем о романе), — есть истинно русский человек именно в
том, что дошел до конца, до края той дороги, на которую его завел заблудший ум. Эта черта
русских людей, черта чрезвычайной серьезности, как бы религиозности, с которою они
предаются своим идеям, есть причина многих наших бед. Мы любим отдаваться цельно, без
уступок, без остановок на полдороге; мы не хитрим и не лукавим сами с собою, а потому и
не терпим мировых сделок между своею мыслью и действительностью. Можно надеяться,
что это драгоценное, великое свойство русской души когда-нибудь проявится в истинно
прекрасных делах и характерах. Теперь же, при нравственной смуте, господствующей в
одних частях нашего общества, при пустоте, господствующей в других, наше свойство
доходить во всем до краю — так или иначе — портит жизнь и даже губит людей».265
Приведенные положения статьи Страхова (о максимализме мысли и
бескомпромиссности натуры как характерных чертах Раскольникова) позволили ему
высказать ряд тонких суждений о романе, стержнем которого Страхов считал духовную
драму «убийцы-теоретика», против отвлеченной теории которого, противоречащей жизни,
восстает его собственная живая натура и свойственные ей «инстинкты человеческой души».
«Это не смех над молодым поколением, не укоры и обвинения, это — плач над ним», —
писал Страхов, во многом верно характеризуя отношение писателя к его герою. «По своему
всегдашнему обычаю, он представил нам человека в самом убийце, как умел отыскать людей
и во всех блудницах, пьяницах и других жалких лицах, которыми обставил своего героя».266
Однако изоляция Страховым Раскольникова и его «идеи» от обрисованного в романе