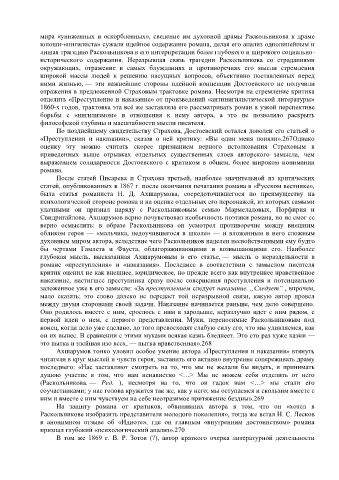Page 308 - Преступление и наказание
P. 308
мира «униженных и оскорбленных», сведение им духовной драмы Раскольникова к драме
юноши-«нигилиста» сужали идейное содержание романа, делая его анализ однолинейным и
лишая трагедию Раскольникова в его интерпретации более глубокого и широкого социально-
исторического содержания. Неразрывная связь трагедии Раскольникова со страданиями
окружающих, отражение в самых блужданиях и противоречиях его мысли стремления
широкой массы людей к решению насущных вопросов, объективно поставленных перед
ними жизнью, — эти важнейшие стороны идейной концепции Достоевского не получили
отражения в предложенной Страховым трактовке романа. Несмотря на стремление критика
отделить «Преступление и наказание» от произведений «антинигилистической литературы»
1860-х годов, трактовка эта всё же заставляла его рассматривать роман в узкой перспективе
борьбы с «нигилизмом» и отношения к нему автора, а это не позволяло раскрыть
философской глубины и масштабности мысли писателя.
По позднейшему свидетельству Страхова, Достоевский остался доволен его статьей о
«Преступлении и наказании», сказав о ней критику: «Вы один меня поняли».267Однако
оценку эту можно считать скорее признанием верного истолкования Страховым в
приведенных выше отрывках отдельных существенных слоев авторского замысла, чем
выражением солидарности Достоевского с критиком в общем, более широком понимании
романа.
После статей Писарева и Страхова третьей, наиболее значительной из критических
статей, опубликованных в 1867 г. после окончания печатания романа в «Русском вестнике»,
была статья романиста Н. Д. Ахшарумова, сосредоточившегося по преимуществу на
психологической стороне романа и на оценке отдельных его персонажей, из которых самыми
удачными он признал наряду с Раскольниковым семью Мармеладовых, Порфирия и
Свидригайлова. Ахшарумов верно почувствовал необычность поэтики романа, но не смог ее
верно осмыслить: в образе Раскольникова он усмотрел противоречие между внешним
обликом героя — «мальчика, недоучившегося в школе» — и вложенным в него сложным
духовным миром автора, вследствие чего Раскольников наделен несвойственными ему будто
бы чертами Гамлета и Фауста, облагораживающими и возвышающими его. Наиболее
глубокая мысль, высказанная Ахшарумовым в его статье, — мысль о нераздельности в
романе «преступления» и «наказания». Последнее в соответствии с замыслом писателя
критик оценил не как внешнее, юридическое, но прежде всего как внутреннее нравственное
наказание, настигшее преступника сразу после совершения преступления и потенциально
заложенное уже в его замысле: «За преступлением следует наказание. „Следует“ , впрочем,
мало сказать; это слово далеко не передает той неразрывной связи, какую автор провел
между двумя сторонами своей задачи. Наказание начинается раньше, чем дело совершено.
Оно родилось вместе с ним, срослось с ним в зародыше, неразлучно идет с ним рядом, с
первой идеи о нем, с первого представления. Муки, переносимые Раскольниковым под
конец, когда дело уже сделано, до того превосходят слабую силу его, что мы удивляемся, как
он их вынес. В сравнении с этими муками всякая казнь бледнеет. Это сто раз хуже казни —
это пытка и злейшая изо всех, — пытка нравственная».268
Ахшарумов тонко уловил особое умение автора «Преступления и наказания» втянуть
читателя в круг мыслей и чувств героя, заставить его активно внутренне сопереживать драму
последнего: «Нас заставляют смотреть на то, что мы не желали бы видеть, и принимать
душою участие в том, что нам ненавистно <…> Мы не можем себя отделить от него
(Раскольникова. — Ред. ), несмотря на то, что он гадок нам <…> мы стали его
соучастниками; у нас голова кружится так же, как у него; мы оступаемся и скользим вместе с
ним и вместе с ним чувствуем на себе неотразимое притяжение бездны».269
На защиту романа от критиков, обвинявших автора в том, что он «хотел в
Раскольникове изобразить представителя молодого поколения», тогда же встал Н. С. Лесков
в анонимном отзыве об «Идиоте», где он главным «внутренним достоинством» романа
признал глубокий «психологический анализ».270
В том же 1869 г. В. Р. Зотов (?), автор краткого очерка литературной деятельности