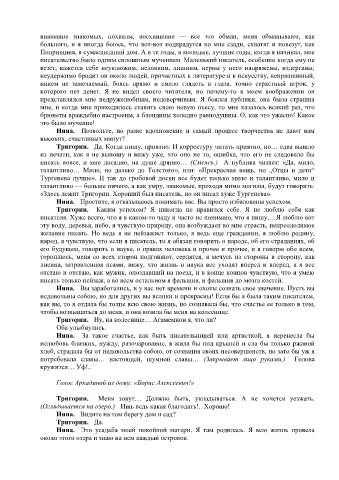Page 17 - Чайка
P. 17
внимание знакомых, похвалы, восхищение — все это обман, меня обманывают, как
больного, и я иногда боюсь, что вот-вот подкрадутся ко мне сзади, схватят и повезут, как
Поприщина, в сумасшедший дом. А в те годы, в молодые, лучшие годы, когда я начинал, мое
писательство было одним сплошным мучением. Маленький писатель, особенно когда ему не
везет, кажется себе неуклюжим, неловким, лишним, нервы у него напряжены, издерганы;
неудержимо бродит он около людей, причастных к литературе и к искусству, непризнанный,
никем не замечаемый, боясь прямо и смело глядеть в глаза, точно страстный игрок, у
которого нет денег. Я не видел своего читателя, но почему-то в моем воображении он
представлялся мне недружелюбным, недоверчивым. Я боялся публики, она была страшна
мне, и когда мне приходилось ставить свою новую пьесу, то мне казалось всякий раз, что
брюнеты враждебно настроены, а блондины холодно равнодушны. О, как это ужасно! Какое
это было мучение!
Нина. Позвольте, но разве вдохновение и самый процесс творчества не дают вам
высоких, счастливых минут?
Тригорин. Да. Когда пишу, приятно. И корректуру читать приятно, но… едва вышло
из печати, как я не выношу и вижу уже, что оно не то, ошибка, что его не следовало бы
писать вовсе, и мне досадно, на душе дрянно… (Смеясь.) А публика читает: «Да, мило,
талантливо… Мило, но далеко до Толстого», или: «Прекрасная вещь, но „Отцы и дети“
Тургенева лучше». И так до гробовой доски все будет только мило и талантливо, мило и
талантливо — больше ничего, а как умру, знакомые, проходя мимо могилы, будут говорить:
«Здесь лежит Тригорин. Хороший был писатель, но он писал хуже Тургенева».
Нина. Простите, я отказываюсь понимать вас. Вы просто избалованы успехом.
Тригорин. Каким успехом? Я никогда не нравился себе. Я не люблю себя как
писателя. Хуже всего, что я в каком-то чаду и часто не понимаю, что я пишу… Я люблю вот
эту воду, деревья, небо, я чувствую природу, она возбуждает во мне страсть, непреодолимое
желание писать. Но ведь я не пейзажист только, я ведь еще гражданин, я люблю родину,
народ, я чувствую, что если я писатель, то я обязан говорить о народе, об его страданиях, об
его будущем, говорить о науке, о правах человека и прочее и прочее, и я говорю обо всем,
тороплюсь, меня со всех сторон подгоняют, сердятся, я мечусь из стороны в сторону, как
лисица, затравленная псами, вижу, что жизнь и наука все уходят вперед и вперед, а я все
отстаю и отстаю, как мужик, опоздавший на поезд, и в конце концов чувствую, что я умею
писать только пейзаж, а во всем остальном я фальшив, и фальшив до мозга костей.
Нина. Вы заработались, и у вас нет времени и охоты сознать свое значение. Пусть вы
недовольны собою, но для других вы велики и прекрасны! Если бы я была таким писателем,
как вы, то я отдала бы толпе всю свою жизнь, но сознавала бы, что счастье ее только в том,
чтобы возвышаться до меня, и она возила бы меня на колеснице.
Тригорин. Ну, на колеснице… Агамемнон я, что ли?
Оба улыбнулись.
Нина. За такое счастье, как быть писательницей или артисткой, я перенесла бы
нелюбовь близких, нужду, разочарование, я жила бы под крышей и ела бы только ржаной
хлеб, страдала бы от недовольства собою, от сознания своих несовершенств, но зато бы уж я
потребовала славы… настоящей, шумной славы… (Закрывает лицо руками.) Голова
кружится… Уф!..
Голос Аркадиной из дому: «Борис Алексеевич!»
Тригорин. Меня зовут… Должно быть, укладываться. А не хочется уезжать.
(Оглядывается на озеро.) Ишь ведь какая благодать!.. Хорошо!
Нина. Видите на том берегу дом и сад?
Тригорин. Да.
Нина. Это усадьба моей покойной матери. Я там родилась. Я всю жизнь провела
около этого озера и знаю на нем каждый островок.