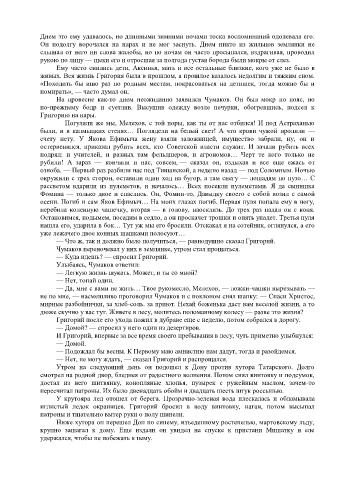Page 882 - Тихий Дон
P. 882
Днем это ему удавалось, но длинными зимними ночами тоска воспоминаний одолевала его.
Он подолгу ворочался на нарах и не мог заснуть. Днем никто из жильцов землянки не
слышал от него ни слова жалобы, но по ночам он часто просыпался, вздрагивая, проводил
рукою по лицу — щеки его и отросшая за полгода густая борода были мокры от слез.
Ему часто снились дети, Аксинья, мать и все остальные близкие, кого уже не было в
живых. Вся жизнь Григория была в прошлом, а прошлое казалось недолгим и тяжким сном.
«Походить бы ишо раз по родным местам, покрасоваться на детишек, тогда можно бы и
помирать», — часто думал он.
На провесне как-то днем неожиданно заявился Чумаков. Он был мокр по пояс, но
по-прежнему бодр и суетлив. Высушив одежду возле печурки, обогревшись, подсел к
Григорию на нары.
— Погуляли же мы, Мелехов, с той поры, как ты от нас отбился! И под Астраханью
были, и в калмыцких степях… Поглядели на белый свет! А что крови чужой пролили —
счету нету. У Якова Ефимыча жену взяли заложницей, имущество забрали, ну, он и
остервенился, приказал рубить всех, кто Советской власти служит. И зачали рубить всех
подряд: и учителей, и разных там фельдшеров, и агрономов… Черт те кого только не
рубили! А зараз — кончили и нас, совсем, — сказал он, вздыхая и все еще ежась от
озноба. — Первый раз разбили нас под Тишанской, а неделю назад — под Соломным. Ночью
окружили с трех сторон, оставили один ход на бугор, а там снегу — лошадям по пузо… С
рассветом вдарили из пулеметов, и началось… Всех посекли пулеметами. Я да сынишка
Фомина — только двое и спаслись. Он, Фомин-то, Давыдку своего с собой возил с самой
осени. Погиб и сам Яков Ефимыч… На моих глазах погиб. Первая пуля попала ему в ногу,
перебила коленную чашечку, вторая — в голову, наосклизь. До трех раз падал он с коня.
Остановимся, подымем, посадим в седло, а он проскачет трошки и опять упадет. Третья пуля
нашла его, ударила в бок… Тут уж мы его бросили. Отскакал я на сотейник, оглянулся, а его
уже лежачего двое конных шашками полосуют…
— Что ж, так и должно было получиться, — равнодушно сказал Григорий.
Чумаков переночевал у них в землянке, утром стал прощаться.
— Куда идешь? — спросил Григорий.
Улыбаясь, Чумаков ответил:
— Легкую жизнь шукать. Может, и ты со мной?
— Нет, топай один.
— Да, мне с вами не жить… Твое рукомесло, Мелехов, — ложки-чашки вырезывать —
не по мне, — насмешливо проговорил Чумаков и с поклоном снял шапку: — Спаси Христос,
мирные разбойнички, за хлеб-соль. за приют. Нехай боженька даст вам веселой жизни, а то
дюже скучно у вас тут. Живете в лесу, молитесь поломанному колесу — разве это жизня?
Григорий после его ухода пожил в дубраве еще с неделю, потом собрался в дорогу.
— Домой? — спросил у него один из дезертиров.
И Григорий, впервые за все время своего пребывания в лесу, чуть приметно улыбнулся:
— Домой.
— Подождал бы весны. К Первому маю амнистию нам дадут, тогда и разойдемся.
— Нет, не могу ждать, — сказал Григорий и распрощался.
Утром на следующий день он подошел к Дону против хутора Татарского. Долго
смотрел на родной двор, бледнея от радостного волнения. Потом снял винтовку и подсумок,
достал из него шитвянку, конопляные хлопья, пузырек с ружейным маслом, зачем-то
пересчитал патроны. Их было двенадцать обойм и двадцать шесть штук россыпью.
У крутояра лед отошел от берега. Прозрачно-зеленая вода плескалась и обламывала
иглистый ледок окраинцев. Григорий бросил в воду винтовку, наган, потом высыпал
патроны и тщательно вытер руки о полу шинели.
Ниже хутора он перешел Дон по синему, изъеденному ростепелью, мартовскому льду,
крупно зашагал к дому. Еще издали он увидел на спуске к пристани Мишатку и еле
удержался, чтобы не побежать к нему.