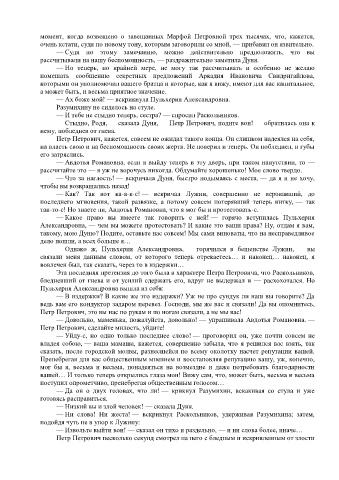Page 177 - Преступление и наказание
P. 177
момент, когда возвещено о завещанных Марфой Петровной трех тысячах, что, кажется,
очень кстати, судя по новому тону, которым заговорили со мной, — прибавил он язвительно.
— Судя по этому замечанию, можно действительно предположить, что вы
рассчитывали на нашу беспомощность, — раздражительно заметила Дуня.
— Но теперь, по крайней мере, не могу так рассчитывать и особенно не желаю
помешать сообщению секретных предложений Аркадия Ивановича Свидригайлова,
которыми он уполномочил вашего братца и которые, как я вижу, имеют для вас капитальное,
а может быть, и весьма приятное значение.
— Ах боже мой! — вскрикнула Пульхерия Александровна.
Разумихину не сиделось на стуле.
— И тебе не стыдно теперь, сестра? — спросил Раскольников.
— Стыдно, Родя, — сказала Дуня, — Петр Петрович, подите вон! — обратилась она к
нему, побледнев от гнева.
Петр Петрович, кажется, совсем не ожидал такого конца. Он слишком надеялся на себя,
на власть свою и на беспомощность своих жертв. Не поверил и теперь. Он побледнел, и губы
его затряслись.
— Авдотья Романовна, если я выйду теперь в эту дверь, при таком напутствии, то —
рассчитайте это — я уж не ворочусь никогда. Обдумайте хорошенько! Мое слово твердо.
— Что за наглость! — вскричала Дуня, быстро подымаясь с места, — да я и не хочу,
чтобы вы возвращались назад!
— Как? Так вот ка-а-к-с! — вскричал Лужин, совершенно не веровавший, до
последнего мгновения, такой развязке, а потому совсем потерявший теперь нитку, — так
так-то-с! Но знаете ли, Авдотья Романовна, что я мог бы и протестовать-с.
— Какое право вы имеете так говорить с ней! — горячо вступилась Пульхерия
Александровна, — чем вы можете протестовать? И какие это ваши права? Ну, отдам я вам,
такому, мою Дуню? Подите, оставьте нас совсем! Мы сами виноваты, что на несправедливое
дело пошли, а всех больше я…
— Однако ж, Пульхерия Александровна, — горячился в бешенстве Лужин, — вы
связали меня данным словом, от которого теперь отрекаетесь… и наконец… наконец, я
вовлечен был, так сказать, через то в издержки…
Эта последняя претензия до того была в характере Петра Петровича, что Раскольников,
бледневший от гнева и от усилий сдержать его, вдруг не выдержал и — расхохотался. Но
Пульхерия Александровна вышла из себя:
— В издержки? В какие же это издержки? Уж не про сундук ли наш вы говорите? Да
ведь вам его кондуктор задаром перевез. Господи, мы же вас и связали! Да вы опомнитесь,
Петр Петрович, это вы нас по рукам и по ногам связали, а не мы вас!
— Довольно, маменька, пожалуйста, довольно! — упрашивала Авдотья Романовна. —
Петр Петрович, сделайте милость, уйдите!
— Уйду-с, но одно только последнее слово! — проговорил он, уже почти совсем не
владея собою, — ваша мамаша, кажется, совершенно забыла, что я решился вас взять, так
сказать, после городской молвы, разнесшейся по всему околотку насчет репутации вашей.
Пренебрегая для вас общественным мнением и восстановляя репутацию вашу, уж, конечно,
мог бы я, весьма и весьма, понадеяться на возмездие и даже потребовать благодарности
вашей… И только теперь открылись глаза мои! Вижу сам, что, может быть, весьма и весьма
поступил опрометчиво, пренебрегая общественным голосом…
— Да он о двух головах, что ли! — крикнул Разумихин, вскакивая со стула и уже
готовясь расправиться.
— Низкий вы и злой человек! — сказала Дуня.
— Ни слова! Ни жеста! — вскрикнул Раскольников, удерживая Разумихина; затем,
подойдя чуть не в упор к Лужину:
— Извольте выйти вон! — сказал он тихо и раздельно, — и ни слова более, иначе…
Петр Петрович несколько секунд смотрел на него с бледным и искривленным от злости