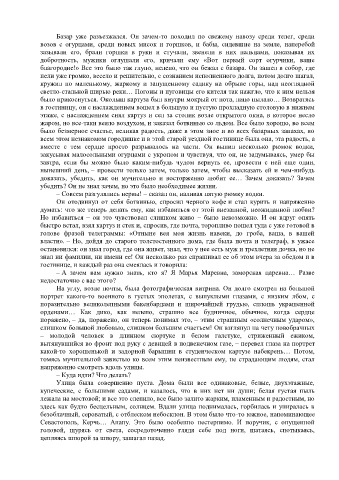Page 3 - Солнечный удар
P. 3
Базар уже разъезжался. Он зачем-то походил по свежему навозу среди телег, среди
возов с огурцами, среди новых мисок и горшков, и бабы, сидевшие на земле, наперебой
зазывали его, брали горшки в руки и стучали, звенели в них пальцами, показывая их
добротность, мужики оглушали его, кричали ему «Вот первый сорт огурчики, ваше
благородие!» Все это было так глупо, нелепо, что он бежал с базара. Он зашел в собор, где
пели уже громко, весело и решительно, с сознанием исполненного долга, потом долго шагал,
кружил по маленькому, жаркому и запущенному садику на обрыве горы, над неоглядной
светло-стальной ширью реки… Погоны и пуговицы его кителя так нажгло, что к ним нельзя
было прикоснуться. Околыш картуза был внутри мокрый от пота, лицо пылало… Возвратясь
в гостиницу, он с наслаждением вошел в большую и пустую прохладную столовую в нижнем
этаже, с наслаждением снял картуз и сел за столик возле открытого окна, в которое несло
жаром, но все-таки веяло воздухом, и заказал ботвинью со льдом. Все было хорошо, во всем
было безмерное счастье, великая радость, даже в этом зное и во всех базарных запахах, во
всем этом незнакомом городишке и в этой старой уездной гостинице была она, эта радость, а
вместе с тем сердце просто разрывалось на части. Он выпил несколько рюмок водки,
закусывая малосольными огурцами с укропом и чувствуя, что он, не задумываясь, умер бы
завтра, если бы можно было каким-нибудь чудом вернуть ее, провести с ней еще один,
нынешний день, – провести только затем, только затем, чтобы высказать ей и чем-нибудь
доказать, убедить, как он мучительно и восторженно любит ее… Зачем доказать? Зачем
убедить? Он не знал зачем, но это было необходимее жизни.
– Совсем разгулялись нервы! – сказал он, наливая пятую рюмку водки.
Он отодвинул от себя ботвинью, спросил черного кофе и стал курить и напряженно
думать: что же теперь делать ему, как избавиться от этой внезапной, неожиданной любви?
Но избавиться – он это чувствовал слишком живо – было невозможно. И он вдруг опять
быстро встал, взял картуз и стек и, спросив, где почта, торопливо пошел туда с уже готовой в
голове фразой телеграммы: «Отныне вея моя жизнь навеки, до гроба, ваша, в вашей
власти». – Но, дойдя до старого толстостенного дома, где была почта и телеграф, в ужасе
остановился: он знал город, где она живет, знал, что у нее есть муж и трехлетняя дочка, но не
знал ни фамилии, ни имени ее! Он несколько раз спрашивал ее об этом вчера за обедом и в
гостинице, и каждый раз она смеялась и говорила:
– А зачем вам нужно знать, кто я? Я Марья Маревна, заморская царевна… Разве
недостаточно с вас этого?
На углу, возле почты, была фотографическая витрина. Он долго смотрел на большой
портрет какого-то военного в густых эполетах, с выпуклыми глазами, с низким лбом, с
поразительно великолепными бакенбардами и широчайшей грудью, сплошь украшенной
орденами… Как дико, как нелепо, страшно все будничное, обычное, когда сердце
поражено, – да, поражено, он теперь понимал это, – этим страшным «солнечным ударом»,
слишком большой любовью, слишком большим счастьем! Он взглянул на чету новобрачных
– молодой человек в длинном сюртуке и белом галстуке, стриженный ежиком,
вытянувшийся во фронт под руку с девицей в подвенечном газе, – перевел глаза на портрет
какой-то хорошенькой и задорной барышни в студенческом картузе набекрень… Потом,
томясь мучительной завистью ко всем этим неизвестным ему, не страдающим людям, стал
напряженно смотреть вдоль улицы.
– Куда идти? Что делать?
Улица была совершенно пуста. Дома были все одинаковые, белые, двухэтажные,
купеческие, с большими садами, и казалось, что в них нет ни души; белая густая пыль
лежала на мостовой; и все это слепило, все было залито жарким, пламенным и радостным, но
здесь как будто бесцельным, солнцем. Вдали улица поднималась, горбилась и упиралась в
безоблачный, сероватый, с отблеском небосклон. В этом было что-то южное, напоминающее
Севастополь, Керчь… Анапу. Это было особенно нестерпимо. И поручик, с опущенной
головой, щурясь от света, сосредоточенно глядя себе под ноги, шатаясь, спотыкаясь,
цепляясь шпорой за шпору, зашагал назад.