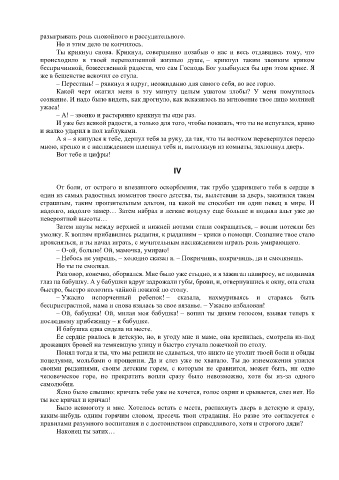Page 3 - Цифры
P. 3
разыгрывать роль спокойного и рассудительного.
Но и этим дело не кончилось.
Ты крикнул снова. Крикнул, совершенно позабыв о нас и весь отдавшись тому, что
происходило в твоей переполненной жизнью душе, – крикнул таким звонким криком
беспричинной, божественной радости, что сам Господь Бог улыбнулся бы при этом крике. Я
же в бешенстве вскочил со стула.
– Перестань! – рявкнул я вдруг, неожиданно для самого себя, во все горло.
Какой черт окатил меня в эту минуту целым ушатом злобы? У меня помутилось
сознание. И надо было видеть, как дрогнуло, как исказилось на мгновение твое лицо молнией
ужаса!
– А! – звонко и растерянно крикнул ты еще раз.
И уже без всякой радости, а только для того, чтобы показать, что ты не испугался, криво
и жалко ударил в пол каблуками.
А я – я кинулся к тебе, дернул тебя за руку, да так, что ты волчком перевернулся передо
мною, крепко и с наслаждением шлепнул тебя и, вытолкнув из комнаты, захлопнул дверь.
Вот тебе и цифры!
IV
От боли, от острого и внезапного оскорбления, так грубо ударившего тебя в сердце в
один из самых радостных моментов твоего детства, ты, вылетевши за дверь, закатился таким
страшным, таким пронзительным альтом, на какой не способен ни один певец в мире. И
надолго, надолго замер… Затем набрал в легкие воздуху еще больше и поднял альт уже до
невероятной высоты…
Затем паузы между верхней и нижней нотами стали сокращаться, – вопли потекли без
умолку. К воплям прибавились рыдания, к рыданиям – крики о помощи. Сознание твое стало
проясняться, и ты начал играть, с мучительным наслаждением играть роль умирающего.
– О-ой, больно! Ой, мамочка, умираю!
– Небось не умрешь, – холодно сказал я. – Покричишь, покричишь, да и смолкнешь.
Но ты не смолкал.
Разговор, конечно, оборвался. Мне было уже стыдно, и я зажигал папиросу, не поднимая
глаз на бабушку. А у бабушки вдруг задрожали губы, брови, и, отвернувшись к окну, она стала
быстро, быстро колотить чайной ложкой по столу.
– Ужасно испорченный ребенок! – сказала, нахмуриваясь и стараясь быть
беспристрастной, мама и снова взялась за свое вязанье. – Ужасно избалован!
– Ой, бабушка! Ой, милая моя бабушка! – вопил ты диким голосом, взывая теперь к
последнему прибежищу – к бабушке.
И бабушка едва сидела на месте.
Ее сердце рвалось в детскую, но, в угоду мне и маме, она крепилась, смотрела из-под
дрожащих бровей на темневшую улицу и быстро стучала ложечкой по столу.
Понял тогда и ты, что мы решили не сдаваться, что никто не утолит твоей боли и обиды
поцелуями, мольбами о прощении. Да и слез уже не хватало. Ты до изнеможения упился
своими рыданиями, своим детским горем, с которым не сравнится, может быть, ни одно
человеческое горе, но прекратить вопли сразу было невозможно, хотя бы из-за одного
самолюбия.
Ясно было слышно: кричать тебе уже не хочется, голос охрип и срывается, слез нет. Но
ты все кричал и кричал!
Было невмоготу и мне. Хотелось встать с места, распахнуть дверь в детскую и сразу,
каким-нибудь одним горячим словом, пресечь твои страдания. Но разве это согласуется с
правилами разумного воспитания и с достоинством справедливого, хотя и строгого дяди?
Наконец ты затих…