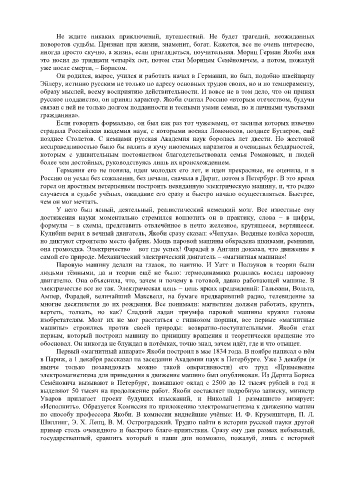Page 157 - Этюды о ученых
P. 157
Не ждите никаких приключений, путешествий. Не будет трагедий, неожиданных
поворотов судьбы. Признан при жизни, знаменит, богат. Кажется, все не очень интересно,
иногда просто скучно, а жизнь, если приглядеться, поучительная. Мориц Герман Якоби имя
это носил до тридцати четырёх лет, потом стал Морицем Семёновичем, а потом, пожалуй
уже после смерти, – Борисом.
Он родился, вырос, учился и работать начал в Германии, но был, подобно швейцарцу
Эйлеру, истинно русским не только по адресу основных трудов своих, но и по темпераменту,
образу мыслей, всему восприятию действительности. И вовсе не в том дело, что он принял
русское подданство, он принял характер. Якоби считал Россию «вторым отечеством, будучи
связан с ней не только долгом подданности и тесными узами семьи, но и личными чувствами
гражданина».
Если говорить формально, он был как раз тот чужеземец, от засилья которых извечно
страдала Российская академия наук, с которыми воевал Ломоносов, позднее Бутлеров, ещё
позднее Столетов. С немцами русская Академия наук боролась лет двести. Но жестокой
несправедливостью было бы валить в кучу иноземных паразитов и очевидных бездарностей,
которым с удивительным постоянством благодетельствовала семья Романовых, и людей
более чем достойных, руководствуясь лишь их происхождением.
Германия его не поняла, идеи молодых его лет, и идеи прекрасные, не оценила, и в
Россию он уехал без сожаления, без печали, сначала в Дерпт, потом в Петербург. В это время
горел он яростным нетерпением построить невиданную электрическую машину, и, что редко
случается в судьбе учёных, ожидание его сразу и быстро начало осуществляться. Быстрее,
чем он мог мечтать.
У него был ясный, деятельный, реалистический немецкий мозг. Все известные ему
достижения науки моментально стремился воплотить он в практику, слова – в цифры,
формулы – в схемы, представить отвлечённое в нечто железное, крутящееся, вертящееся.
Кулибин верил в вечный двигатель, Якоби сразу сказал: «Чепуха». Водяные колёса хороши,
но диктуют строителю место фабрик. Мощь паровой машины обкрадена шкивами, ремнями,
она громоздка. Электричество – вот где успех! Фарадей в Англии доказал, что движение в
самой его природе. Механический электрический двигатель – «магнитная машина»!
Паровую машину делали на глазок, по наитию. И Уатт и Ползунов в теории были
людьми тёмными, да и теории ещё не было: термодинамика родилась вослед паровому
двигателю. Она объяснила, что, зачем и почему в готовой, давно работающей машине. В
электричестве все не так. Электрическая цепь – цепь ярких предвидений: Гальвани, Вольта,
Ампер, Фарадей, величайший Максвелл, на бумаге предваривший радио, телевидение за
многие десятилетия до их рождения. Все понимали: магнетизм должен работать, крутить,
вертеть, толкать, но как? Сладкий ладан триумфа паровой машины кружил головы
изобретателям. Мозг их не мог расстаться с гипнозом поршня, все первые «магнитные
машины» строились против своей природы: возвратно-поступательными. Якоби стал
первым, который построил машину по принципу вращения и теоретически вращение это
обосновал. Он никогда не блуждал в потёмках, точно знал, зачем идёт, где и что отыщет.
Первый «магнитный аппарат» Якоби построил в мае 1834 года. В ноябре написал о нём
в Париж, а 1 декабря рассказал на заседании Академии наук в Петербурге. Уже 3 декабря (и
нынче только позавидовать можно такой оперативности) его труд «Применение
электромагнетизма для приведения в движение машин» был опубликован. Из Дерпта Бориса
Семёновича вызывают в Петербург, повышают оклад с 2500 до 12 тысяч рублей в год и
выделяют 50 тысяч на продолжение работ. Якоби составляет подробную записку, министр
Уваров прилагает проект будущих изысканий, и Николай I размашисто визирует:
«Исполнить». Образуется Комиссия по приложению электромагнетизма к движению машин
по способу профессора Якоби. В комиссии виднейшие учёные: И. Ф. Крузенштерн, П. Л.
Шиллинг, Э. X. Ленц, В. М. Остроградский. Трудно найти в истории русской науки другой
пример столь очевидного и быстрого благо-приятствия. Сразу ему дан размах небывалый,
государственный, сравнить который в наши дни возможно, пожалуй, лишь с историей