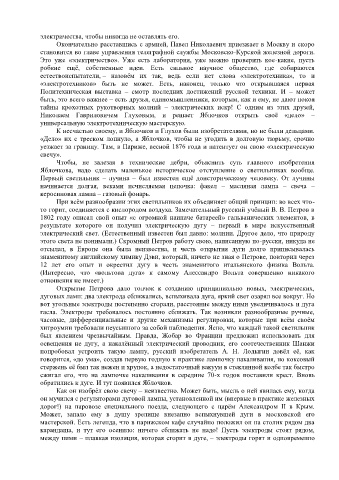Page 155 - Этюды о ученых
P. 155
электричества, чтобы никогда не оставлять его.
Окончательно расставшись с армией, Павел Николаевич приезжает в Москву и скоро
становится во главе управления телеграфной службы Московско-Курской железной дороги.
Это уже «электричество». Уже есть лаборатория, уже можно проверить кое-какие, пусть
робкие ещё, собственные идеи. Есть сильное научное общество, где собираются
естествоиспытатели, – назовём их так, ведь если нет слова «электротехника», то и
«электротехников» быть не может. Есть, наконец, только что открывшаяся первая
Политехническая выставка – смотр последних достижений русской техники. И – может
быть, это всего важнее – есть друзья, единомышленники, которым, как и ему, не дают покоя
тайны крохотных рукотворных молний – электрических искр! С одним из этих друзей,
Николаем Гавриловичем Глуховым, и решает Яблочков открыть своё «дело» –
универсальную электротехническую мастерскую.
К несчастью своему, и Яблочков и Глухов были изобретателями, но не были дельцами.
«Дело» их с треском лопнуло, а Яблочков, чтобы не угодить в долговую тюрьму, срочно
уезжает за границу. Там, в Париже, весной 1876 года и патентует он свою «электрическую
свечу».
Чтобы, не залезая в технические дебри, объяснить суть главного изобретения
Яблочкова, надо сделать маленькое историческое отступление о светильниках вообще.
Первый светильник – лучина – был известен ещё доисторическому человеку. От лучины
начинается долгая, веками исчисляемая цепочка: факел – масляная лампа – свеча –
керосиновая лампа – газовый фонарь.
При всём разнообразии этих светильников их объединяет общий принцип: во всех что-
то горит, соединяется с кислородом воздуха. Замечательный русский учёный В. В. Петров в
1802 году описал свой опыт «с огромной наипаче батареей» гальванических элементов, в
результате которого он получил электрическую дугу – первый в мире искусственный
электрический свет. (Естественный известен был давно: молнии. Другое дело, что природу
этого света не понимали.) Скромный Петров работу свою, написанную по-русски, никуда не
отсылал, в Европе она была неизвестна, и честь открытия дуги долго приписывалась
знаменитому английскому химику Дэви, который, ничего не зная о Петрове, повторил через
12 лет его опыт и окрестил дугу в честь знаменитого итальянского физика Вольта.
(Интересно, что «вольтова дуга» к самому Алессандро Вольта совершенно никакого
отношения не имеет.)
Открытие Петрова дало толчок к созданию принципиально новых, электрических,
дуговых ламп: два электрода сближались, вспыхивала дуга, яркий свет озарял все вокруг. Но
вот угольные электроды постепенно сгорали, расстояние между ними увеличивалось и дуга
гасла. Электроды требовалось постоянно сближать. Так возникли разнообразные ручные,
часовые, дифференциальные и другие механизмы регулировки, которые при всём своём
хитроумии требовали неусыпного за собой наблюдения. Ясно, что каждый такой светильник
был явлением чрезвычайным. Правда, Жобар во Франции предложил использовать для
освещения не дугу, а накалённый электрический проводник, его соотечественник Шанжи
попробовал устроить такую лампу, русский изобретатель А. Н. Лодыгин довёл её, как
говорится, «до ума», создав первую годную к практике лампочку накаливания, но коксовый
стержень её был так нежен и хрупок, а недостаточный вакуум в стеклянной колбе так быстро
сжигал его, что на лампочке накаливания в середине 70-х годов поставили крест. Вновь
обратились к дуге. И тут появился Яблочков.
Как он изобрёл свою свечу – неизвестно. Может быть, мысль о ней явилась ему, когда
он мучился с регуляторами дуговой лампы, установленной им (впервые в практике железных
дорог!) на паровозе специального поезда, следующего с царём Александром II в Крым.
Может, запало ему в душу зрелище внезапно вспыхнувшей дуги в московской его
мастерской. Есть легенда, что в парижском кафе случайно положил он на столик рядом два
карандаша, и тут его осенило: ничего сближать не надо! Пусть электроды стоят рядом,
между ними – плавкая изоляция, которая сгорит в дуге, – электроды горят и одновременно