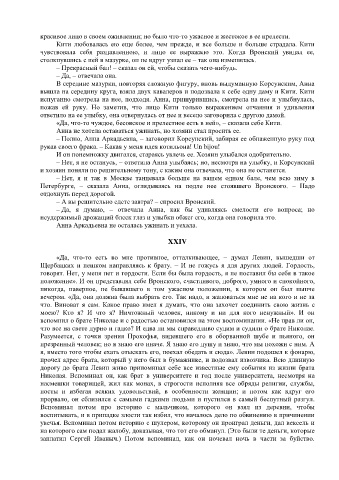Page 50 - Анна Каренина
P. 50
красивое лицо в своем оживлении; но было что-то ужасное и жестокое в ее прелести.
Кити любовалась ею еще более, чем прежде, и все больше и больше страдала. Кити
чувствовала себя раздавленною, и лицо ее выражало это. Когда Вронский увидал ее,
столкнувшись с ней в мазурке, он не вдруг узнал ее – так она изменилась.
– Прекрасный бал! – сказал он ей, чтобы сказать чего-нибудь.
– Да, – отвечала она.
В середине мазурки, повторяя сложную фигуру, вновь выдуманную Корсунским, Анна
вышла на середину круга, взяла двух кавалеров и подозвала к себе одну даму и Кити. Кити
испуганно смотрела на нее, подходя. Анна, прищурившись, смотрела на нее и улыбнулась,
пожав ей руку. Но заметив, что лицо Кити только выражением отчаяния и удивления
ответило на ее улыбку, она отвернулась от нее и весело заговорила с другою дамой.
«Да, что-то чуждое, бесовское и прелестное есть в ней», – сказала себе Кити.
Анна не хотела оставаться ужинать, но хозяин стал просить ее.
– Полно, Анна Аркадьевна, – заговорил Корсунский, забирая ее обнаженную руку под
рукав своего фрака. – Какая у меня идея котильона! Un bijou!
И он понемножку двигался, стараясь увлечь ее. Хозяин улыбался одобрительно.
– Нет, я не останусь, – ответила Анна улыбаясь; но, несмотря на улыбку, и Корсунский
и хозяин поняли по решительному тону, с каким она отвечала, что она не останется.
– Нет, я и так в Москве танцевала больше на вашем одном бале, чем всю зиму в
Петербурге, – сказала Анна, оглядываясь на подле нее стоявшего Вронского. – Надо
отдохнуть перед дорогой.
– А вы решительно едете завтра? – спросил Вронский.
– Да, я думаю, – отвечала Анна, как бы удивляясь смелости его вопроса; но
неудержимый дрожащий блеск глаз и улыбки обжег его, когда она говорила это.
Анна Аркадьевна не осталась ужинать и уехала.
XXIV
«Да, что-то есть во мне противное, отталкивающее, – думал Левин, вышедши от
Щербацких и пешком направляясь к брату. – И не гожусь я для других людей. Гордость,
говорят. Нет, у меня нет и гордости. Если бы была гордость, я не поставил бы себя в такое
положение». И он представлял себе Вронского, счастливого, доброго, умного и спокойного,
никогда, наверное, не бывавшего в том ужасном положении, в котором он был нынче
вечером. «Да, она должна была выбрать его. Так надо, и жаловаться мне не на кого и не за
что. Виноват я сам. Какое право имел я думать, что она захочет соединить свою жизнь с
моею? Кто я? И что я? Ничтожный человек, никому и ни для кого ненужный». И он
вспомнил о брате Николае и с радостью остановился на этом воспоминании. «Не прав ли он,
что все на свете дурно и гадко? И едва ли мы справедливо судим и судили о брате Николае.
Разумеется, с точки зрения Прокофья, видевшего его в оборванной шубе и пьяного, он
презренный человек; но я знаю его иначе. Я знаю его душу и знаю, что мы похожи с ним. А
я, вместо того чтобы ехать отыскать его, поехал обедать и сюда». Левин подошел к фонарю,
прочел адрес брата, который у него был в бумажнике, и подозвал извозчика. Всю длинную
дорогу до брата Левин живо припоминал себе все известные ему события из жизни брата
Николая. Вспоминал он, как брат в университете и год после университета, несмотря на
насмешки товарищей, жил как монах, в строгости исполняя все обряды религии, службы,
посты и избегая всяких удовольствий, в особенности женщин; и потом как вдруг его
прорвало, он сблизился с самыми гадкими людьми и пустился в самый беспутный разгул.
Вспоминал потом про историю с мальчиком, которого он взял из деревни, чтобы
воспитывать, и в припадке злости так избил, что началось дело по обвинению в причинении
увечья. Вспоминал потом историю с шулером, которому он проиграл деньги, дал вексель и
на которого сам подал жалобу, доказывая, что тот его обманул. (Это были те деньги, которые
заплатил Сергей Иваныч.) Потом вспоминал, как он ночевал ночь в части за буйство.