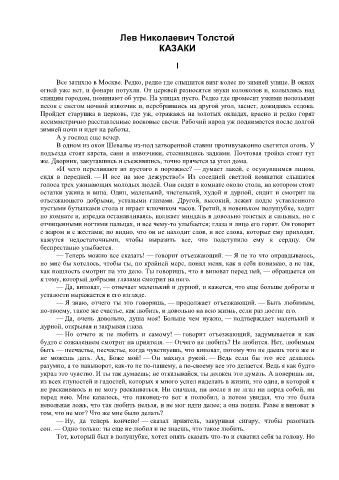Page 2 - Казаки
P. 2
Лев Николаевич Толстой
КАЗАКИ
I
Все затихло в Москве. Редко, редко где слышится визг колес по зимней улице. В окнах
огней уже нет, и фонари потухли. От церквей разносятся звуки колоколов и, колыхаясь над
спящим городом, поминают об утре. На улицах пусто. Редко где промесит узкими полозьями
песок с снегом ночной извозчик и, перебравшись на другой угол, заснет, дожидаясь седока.
Пройдет старушка в церковь, где уж, отражаясь на золотых окладах, красно и редко горят
несимметрично расставленные восковые свечи. Рабочий народ уж поднимается после долгой
зимней ночи и идет на работы.
А у господ еще вечер.
В одном из окон Шевалье из-под затворенной ставни противузаконно светится огонь. У
подъезда стоят карета, сани и извозчики, стеснившись задками. Почтовая тройка стоит тут
же. Дворник, закутавшись и съежившись, точно прячется за угол дома.
«И чего переливают из пустого в порожнее? — думает лакей, с осунувшимся лицом,
сидя в передней. — И все на мое дежурство!» Из соседней светлой комнатки слышатся
голоса трех ужинающих молодых людей. Они сидят в комнате около стола, на котором стоят
остатки ужина и вина. Один, маленький, чистенький, худой и дурной, сидит и смотрит на
отъезжающего добрыми, усталыми глазами. Другой, высокий, лежит подле уставленного
пустыми бутылками стола и играет ключиком часов. Третий, в новеньком полушубке, ходит
по комнате и, изредка останавливаясь, щелкает миндаль в довольно толстых и сильных, но с
отчищенными ногтями пальцах, и все чему-то улыбается; глаза и лицо его горят. Он говорит
с жаром и с жестами; по видно, что он не находит слов, и все слова, которые ему приходят,
кажутся недостаточными, чтобы выразить все, что подступило ему к сердцу. Он
беспрестанно улыбается.
— Теперь можно все сказать! — говорит отъезжающий. — Я не то что оправдываюсь,
но мне бы хотелось, чтобы ты, по крайней мере, понял меня, как я себя понимаю, а не так,
как пошлость смотрит на это дело. Ты говоришь, что я виноват перед ней, — обращается он
к тому, который добрыми глазами смотрит на него.
— Да, виноват, — отвечает маленький и дурной, и кажется, что еще больше доброты и
усталости выражается в его взгляде.
— Я знаю, отчего ты это говоришь, — продолжает отъезжающий. — Быть любимым,
по-твоему, такое же счастье, как любить, и довольно на всю жизнь, если раз достиг его.
— Да, очень довольно, душа моя! Больше чем нужно, — подтверждает маленький и
дурной, открывая и закрывая глаза.
— Но отчего ж не любить и самому! — говорит отъезжающий, задумывается и как
будто с сожалением смотрит на приятеля. — Отчего не любить? Не любится. Нет, любимым
быть — несчастье, несчастье, когда чувствуешь, что виноват, потому что не даешь того же и
не можешь дать. Ах, Боже мой! — Он махнул рукой. — Ведь если бы это все делалось
разумно, а то навыворот, как-то не по-нашему, а по-своему все это делается. Ведь я как будто
украл это чувство. И ты так думаешь; не отказывайся, ты должен это думать. А поверишь ли,
из всех глупостей и гадостей, которых я много успел наделать в жизни, это одна, в которой я
не раскаиваюсь и не могу раскаиваться. Ни сначала, ни после я не лгал ни перед собой, ни
перед нею. Мне казалось, что наконец-то вот я полюбил, а потом увидал, что это была
невольная ложь, что так любить нельзя, и не мог идти далее; а она пошла. Разве я виноват в
том, что не мог? Что же мне было делать?
— Ну, да теперь кончено! — сказал приятель, закуривая сигару, чтобы разогнать
сон. — Одно только: ты еще не любил и не знаешь, что такое любить.
Тот, который был в полушубке, хотел опять сказать что-то и схватил себя за голову. Но