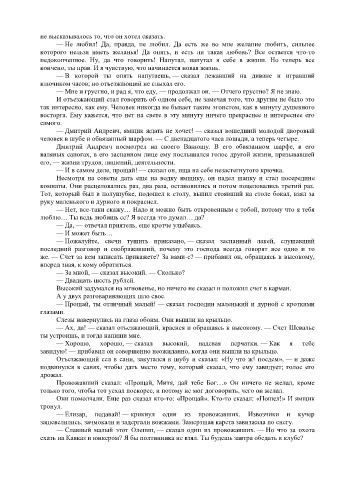Page 3 - Казаки
P. 3
не высказывалось то, что он хотел сказать.
— Не любил! Да, правда, не любил. Да есть же во мне желание любить, сильнее
которого нельзя иметь желанья! Да опять, и есть ли такая любовь? Все остается что-то
недоконченное. Ну, да что говорить! Напутал, напутал я себе в жизни. Но теперь все
кончено, ты прав. И я чувствую, что начинается новая жизнь.
— В которой ты опять напутаешь, — сказал лежавший на диване и игравший
ключиком часов; но отъезжающий не слыхал его.
— Мне и грустно, и рад я, что еду, — продолжал он. — Отчего грустно? Я не знаю.
И отъезжающий стал говорить об одном себе, не замечая того, что другим не было это
так интересно, как ему. Человек никогда не бывает таким эгоистом, как в минуту душевного
восторга. Ему кажется, что нет на свете в эту минуту ничего прекраснее и интереснее его
самого.
— Дмитрий Андреич, ямщик ждать не хочет! — сказал вошедший молодой дворовый
человек в шубе и обвязанный шарфом. — С двенадцатого часа лошади, а теперь четыре.
Дмитрий Андреич посмотрел на своего Ванюшу. В его обвязанном шарфе, в его
валяных сапогах, в его заспанном лице ему послышался голос другой жизни, призывавшей
его, — жизни трудов, лишений, деятельности.
— И в самом деле, прощай! — сказал он, ища на себе незастегнутого крючка.
Несмотря на советы дать еще на водку ямщику, он надел шапку и стал посередине
комнаты. Они расцеловались раз, два раза, остановились и потом поцеловались третий раз.
Тот, который был в полушубке, подошел к столу, выпил стоявший на столе бокал, взял за
руку маленького и дурного и покраснел.
— Нет, все-таки скажу… Надо и можно быть откровенным с тобой, потому что я тебя
люблю… Ты ведь любишь ее? Я всегда это думал… да?
— Да, — отвечал приятель, еще кротче улыбаясь.
— И может быть…
— Пожалуйте, свечи тушить приказано, — сказал заспанный лакей, слушавший
последний разговор и соображавший, почему это господа всегда говорят все одно и то
же. — Счет за кем записать прикажете? За вами-с? — прибавил он, обращаясь к высокому,
вперед зная, к кому обратиться.
— За мной, — сказал высокий. — Сколько?
— Двадцать шесть рублей.
Высокий задумался на мгновенье, но ничего не сказал и положил счет в карман.
А у двух разговаривающих шло свое.
— Прощай, ты отличный малый! — сказал господин маленький и дурной с кроткими
глазами.
Слезы навернулись на глаза обоим. Они вышли на крыльцо.
— Ах, да! — сказал отъезжающий, краснея и обращаясь к высокому. — Счет Шевалье
ты устроишь, и тогда напиши мне.
— Хорошо, хорошо, — сказал высокий, надевая перчатки. — Как я тебе
завидую! — прибавил он совершенно неожиданно, когда они вышли на крыльцо.
Отъезжающий сел в сани, закутался в шубу и сказал: «Ну что ж! поедем», — и даже
подвинулся в санях, чтобы дать место тому, который сказал, что ему завидует; голос его
дрожал.
Провожавший сказал: «Прощай, Митя, дай тебе Бог…» Он ничего не желал, кроме
только того, чтобы тот уехал поскорее, и потому не мог договорить, чего он желал.
Они помолчали. Еще раз сказал кто-то: «Прощай». Кто-то сказал: «Пошел!» И ямщик
тронул.
— Елизар, подавай! — крикнул один из провожавших. Извозчики и кучер
зашевелились, зачмокали и задергали вожжами. Замерзшая карета завизжала по снегу.
— Славный малый этот Оленин, — сказал один из провожавших. — Но что за охота
ехать на Кавказ и юнкером? Я бы полтинника не взял. Ты будешь завтра обедать в клубе?