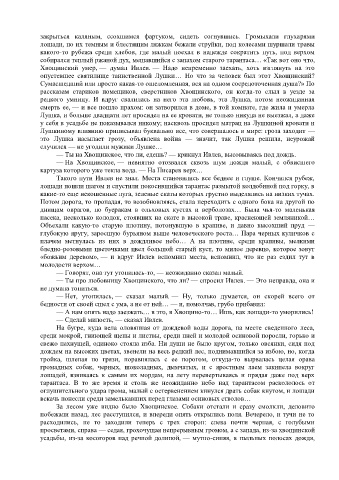Page 2 - Грамматика любви
P. 2
закрыться каляным, ссохшимся фартуком, сидеть согнувшись. Громыхали глухарями
лошади, по их темным и блестящим ляжкам бежали струйки, под колесами шуршали травы
какого-то рубежа среди хлебов, где малый поехал в надежде сократить путь, под верхом
собирался теплый ржаной дух, мешавшийся с запахом старого тарантаса… «Так вот оно что,
Хвощинский умер, — думал Ивлев. — Надо непременно заехать, хоть взглянуть на это
опустевшее святилище таинственной Лушки… Но что за человек был этот Хвощинский?
Сумасшедший или просто какая-то ошеломленная, вся на одном сосредоточенная душа?» По
рассказам стариков помещиков, сверстников Хвощинского, он когда-то слыл в уезде за
редкого умницу. И вдруг свалилась на него эта любовь, эта Лушка, потом неожиданная
смерть ее, — и все пошло прахом: он затворился в доме, в той комнате, где жила и умерла
Лушка, и больше двадцати лет просидел на ее кровати, не только никуда не выезжал, а даже
у себя в усадьбе не показывался никому; насквозь просидел матрац на Лушкиной кровати и
Лушкиному влиянию приписывал буквально все, что совершалось в мире: гроза заходит —
это Лушка насылает грозу, объявлена война — значит, так Лушка решила, неурожай
случился — не угодили мужики Лушке…
— Ты на Хвощинское, что ли, едешь? — крикнул Ивлев, высовываясь под дождь.
— На Хвощинское, — невнятно отозвался сквозь шум дождя малый, с обвисшего
картуза которого уже текла вода. — На Писарев верх…
Такого пути Ивлев не знал. Места становились все беднее и глуше. Кончился рубеж,
лошади пошли шагом и спустили покосившийся тарантас размытой колдобиной под горку, в
какие-то еще некошенные луга, зеленые скаты которых грустно выделялись на низких тучах.
Потом дорога, то пропадая, то возобновляясь, стала переходить с одного бока на другой по
днищам оврагов, по буеракам в ольховых кустах и верболозах… Была чья-то маленькая
пасека, несколько колодок, стоявших на скате в высокой траве, краснеющей земляникой…
Объехали какую-то старую плотину, потонувшую в крапиве, и давно высохший пруд —
глубокую яругу, заросшую бурьяном выше человеческого роста… Пара черных куличков с
плачем метнулась из них в дождливое небо… А на плотине, среди крапивы, мелкими
бледно-розовыми цветочками цвел большой старый куст, то милое деревцо, которое зовут
«божьим деревом», — и вдруг Ивлев вспомнил места, вспомнил, что не раз ездил тут в
молодости верхом…
— Говорят, она тут утопилась-то, — неожиданно сказал малый.
— Ты про любовницу Хвощинского, что ли? — спросил Ивлев. — Это неправда, она и
не думала топиться.
— Нет, утопилась, — сказал малый. — Ну, только думается, он скорей всего от
бедности от своей сшел с ума, а не от ней… — и, помолчав, грубо прибавил:
— А нам опять надо заезжать… в это, в Хвощино-то… Ишь, как лошади-то уморились!
— Сделай милость, — сказал Ивлев.
На бугре, куда вела оловянная от дождевой воды дорога, на месте сведенного леса,
среди мокрой, гниющей щепы и листвы, среди пней и молодой осиновой поросли, горько и
свежо пахнущей, одиноко стояла изба. Ни души не было кругом, только овсянки, сидя под
дождем на высоких цветах, звенели на весь редкий лес, поднимавшийся за избою, но, когда
тройка, шлепая по грязи, поравнялась с ее порогом, откуда-то вырвалась целая орава
громадных собак, черных, шоколадных, дымчатых, и с яростным лаем закипела вокруг
лошадей, взвиваясь к самым их мордам, на лету перевертываясь и прядая даже под верх
тарантаса. В то же время и столь же неожиданно небо над тарантасом раскололось от
оглушительного удара грома, малый с остервенением кинулся драть собак кнутом, и лошади
вскачь понесли среди замелькавших перед глазами осиновых стволов…
За лесом уже видно было Хвощинское. Собаки отстали и сразу смолкли, деловито
побежали назад, лес расступился, и впереди опять открылись поля. Вечерело, и тучи не то
расходились, не то заходили теперь с трех сторон: слева почти черная, с голубыми
просветами, справа — седая, грохочущая непрерывным громом, а с запада, из-за хвощинской
усадьбы, из-за косогоров над речной долиной, — мутно-синяя, в пыльных полосах дождя,