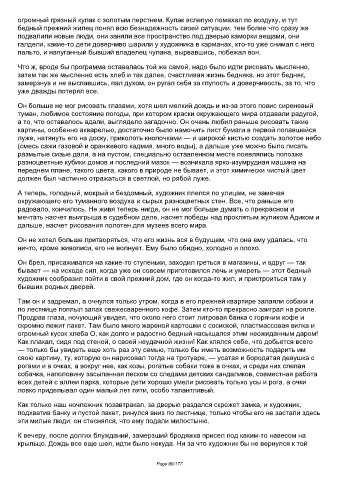Page 96 - Настоящие сказки
P. 96
огромный грязный кулак с золотым перстнем. Кулак вслепую помахал по воздуху, и тут
бедный прежний жилец понял всю безнадежность своей ситуации, тем более что сразу же
подвалили новые люди, они заняли все пространство под дверью каморки вещами, они
галдели, какие-то дети доверчиво шарили у художника в карманах, кто-то уже снимал с него
пальто, и напуганный бывший владелец чулана, вырвавшись, побежал вон.
Что ж, вроде бы программа оставалась той же самой, надо было идти рисовать мысленно,
затем так же мысленно есть хлеб и так далее, счастливая жизнь бедняка, но этот бедняк,
замерзнув и не выспавшись, пал духом, он ругал себя за глупость и доверчивость, за то, что
уже дважды потерял все.
Он больше не мог рисовать глазами, хотя шел мелкий дождь и из-за этого повис сиреневый
туман, любимое состояние погоды, при котором краски окружающего мира отдавали радугой,
а то, что оставалось вдали, выглядело загадочно. Он очень любил раньше рисовать такие
картины, особенно акварелью, достаточно было намочить лист бумаги в первой попавшейся
луже, натянуть его на доску, приколоть кнопочками — и широкой кистью создать золотое небо
(смесь сажи газовой и оранжевого кадмия, много воды), а дальше уже можно было писать
размытые сизые дали, а на пустом, специально оставленном месте появлялись попозже
разноцветные кубики домов и последний мазок — возникала ярко-изумрудная машина на
переднем плане, такого цвета, какого в природе не бывает, и этот химически чистый цвет
должен был частично отражаться в светлой, но рябой луже.
А теперь, голодный, мокрый и бездомный, художник плелся по улицам, не замечая
окружающего его туманного воздуха и сырых разноцветных стен. Все, что раньше его
радовало, кончилось. Не живя теперь нигде, он не мог больше думать о прекрасном и
мечтать насчет выигрыша в судебном деле, насчет победы над проклятым жуликом Адиком и
дальше, насчет рисования полотен для музеев всего мира.
Он не хотел больше притворяться, что его жизнь вся в будущем, что она ему удалась, что
ничто, кроме живописи, его не волнует. Ему было обидно, холодно и плохо.
Он брел, присаживался на какие-то ступеньки, заходил греться в магазины, и вдруг — так
бывает — на исходе сил, когда уже он совсем приготовился лечь и умереть — этот бедный
художник сообразил пойти в свой прежний дом, где он когда-то жил, и пристроиться там у
бывших родных дверей.
Там он и задремал, а очнулся только утром, когда в его прежней квартире залаяли собаки и
по лестнице поплыл запах свежесваренного кофе. Затем кто-то прекрасно заиграл на рояле.
Продрав глаза, ночующий увидел, что около него стоит литровая банка с горячим кофе и
скромно лежит пакет. Там было много жареной картошки с сосиской, пластмассовая вилка и
огромный кусок хлеба О, как долго и радостно бедный насыщался этим неожиданным даром!
Как плакал, сидя под стеной, о своей неудачной жизни! Как клялся себе, что добьется всего
— только бы увидеть еще хоть раз эту семью, только бы иметь возможность подарить им
свою картину, ту, которую он нарисовал тогда на тротуаре, — усатая и бородатая девушка с
рогами и в очках, а вокруг нее, как козы, рогатые собаки тоже в очках, и среди них слепая
собачка, наполовину засыпанная песком со следами детских сандаликов, совместная работа
всех детей с аллеи парка, которые дети хорошо умели рисовать только усы и рога, а очки
ловко приделывал один малый лет пяти, особо талантливый.
Как только наш ночлежник позавтракал, за дверью раздался скрежет замка, и художник,
подхватив банку и пустой пакет, ринулся вниз по лестнице, только чтобы его не застали здесь
эти милые люди: он стеснялся, что ему подали милостыню.
К вечеру, после долгих блужданий, замерзший бродяжка присел под каким-то навесом на
крыльцо. Дождь все еще шел, идти было некуда. Ни за что художник бы не вернулся к той
Page 96/177