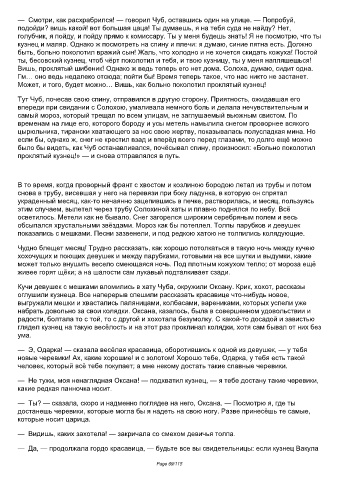Page 69 - Вечера на хуторе близ Диканьки
P. 69
— Смотри, как расхрабрился! — говорил Чуб, оставшись один на улице. — Попробуй,
подойди? вишь какой! вот большая цаца! Ты думаешь, я на тебя суда не найду? Нет,
голубчик, я пойду, и пойду прямо к комиссару. Ты у меня будешь знать! Я не посмотрю, что ты
кузнец и маляр. Однако ж посмотреть на спину и плечи: я думаю, синие пятна есть. Должно
быть, больно поколотил вражий сын! Жаль, что холодно и не хочется скидать кожуха! Постой
ты, бесовский кузнец, чтоб чёрт поколотил и тебя, и твою кузницу, ты у меня напляшешься!
Вишь, проклятый шибеник! Однако ж ведь теперь его нет дома. Солоха, думаю, сидит одна.
Гм… оно ведь недалеко отсюда; пойти бы! Время теперь такое, что нас никто не застанет.
Может, и того, будет можно… Вишь, как больно поколотил проклятый кузнец!
Тут Чуб, почесав свою спину, отправился в другую сторону. Приятность, ожидавшая его
впереди при свидании с Солохою, умаливала немного боль и делала нечувствительным и
самый мороз, который трещал по всем улицам, не заглушаемый вьюжным свистом. По
временам на лице его, которого бороду и усы метель намылила снегом проворнее всякого
цырюльника, тирански хватающего за нос свою жертву, показывалась полусладкая мина. Но
если бы, однако ж, снег не крестил взад и вперёд всего перед глазами, то долго ещё можно
было бы видеть, как Чуб останавливался, почёсывал спину, произносил: «Больно поколотил
проклятый кузнец!» — и снова отправлялся в путь.
В то время, когда проворный франт с хвостом и козлиною бородою летал из трубы и потом
снова в трубу, висевшая у него на перевязи при боку ладунка, в которую он спрятал
украденный месяц, как-то нечаянно зацепившись в печке, растворилась, и месяц, пользуясь
этим случаем, вылетел через трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по небу. Всё
осветилось. Метели как не бывало. Снег загорелся широким серебряным полем и весь
обсыпался хрустальными звёздами. Мороз как бы потеплел. Толпы парубков и девушек
показались с мешками. Песни зазвенели, и под редкою хатою не толпились колядующие.
Чудно блещет месяц! Трудно рассказать, как хорошо потолкаться в такую ночь между кучею
хохочущих и поющих девушек и между парубками, готовыми на все шутки и выдумки, какие
может только внушить весело смеющаяся ночь. Под плотным кожухом тепло; от мороза ещё
живее горят щёки; а на шалости сам лукавый подталкивает сзади.
Кучи девушек с мешками вломились в хату Чуба, окружили Оксану. Крик, хохот, рассказы
оглушили кузнеца. Все наперерыв спешили рассказать красавице что-нибудь новое,
выгружали мешки и хвастались паляницами, колбасами, варениками, которых успели уже
набрать довольно за свои колядки. Оксана, казалось, была в совершенном удовольствии и
радости, болтала то с той, то с другой и хохотала безумолку. С какой-то досадой и завистью
глядел кузнец на такую весёлость и на этот раз проклинал колядки, хотя сам бывал от них без
ума.
— Э, Одарка! — сказала весёлая красавица, оборотившись к одной из девушек, — у тебя
новые черевики! Ах, какие хорошие! и с золотом! Хорошо тебе, Одарка, у тебя есть такой
человек, который всё тебе покупает; а мне некому достать такие славные черевики.
— Не тужи, моя ненаглядная Оксана! — подхватил кузнец, — я тебе достану такие черевики,
какие редкая панночка носит.
— Ты? — сказала, скоро и надменно поглядев на него, Оксана. — Посмотрю я, где ты
достанешь черевики, которые могла бы я надеть на свою ногу. Разве принесёшь те самые,
которые носит царица.
— Видишь, каких захотела! — закричала со смехом девичья толпа.
— Да, — продолжала гордо красавица, — будьте все вы свидетельницы: если кузнец Вакула
Page 69/115