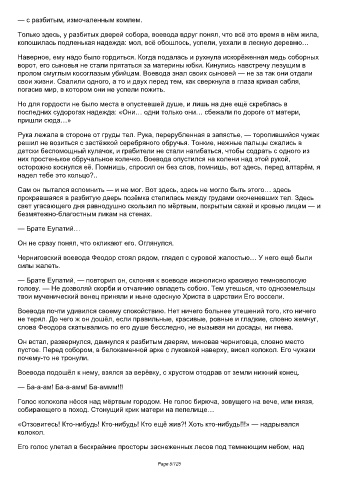Page 5 - Евпатий Коловрат
P. 5
— с разбитым, измочаленным комлем.
Только здесь, у разбитых дверей собора, воевода вдруг понял, что всё это время в нём жила,
копошилась подленькая надежда: мол, всё обошлось, успели, уехали в лесную деревню…
Наверное, ему надо было гордиться. Когда подалась и рухнула искорёженная медь соборных
ворот, его сыновья не стали прятаться за материны юбки. Кинулись навстречу лезущим в
пролом смуглым косоглазым убийцам. Воевода знал своих сыновей — не за так они отдали
свои жизни. Свалили одного, а то и двух перед тем, как сверкнула в глаза кривая сабля,
погасив мир, в котором они не успели пожить.
Но для гордости не было места в опустевшей душе, и лишь на дне ещё скреблась в
последних судорогах надежда: «Они… одни только они… сбежали по дороге от матери,
пришли сюда…»
Рука лежала в стороне от груды тел. Рука, перерубленная в запястье, — торопившийся чужак
решил не возиться с застёжкой серебряного обручья. Тонкие, нежные пальцы сжались в
детски беспомощный кулачок, и грабители не стали нагибаться, чтобы содрать с одного из
них простенькое обручальное колечко. Воевода опустился на колени над этой рукой,
осторожно коснулся её. Помнишь, спросил он без слов, помнишь, вот здесь, перед алтарём, я
надел тебе это кольцо?..
Сам он пытался вспомнить — и не мог. Вот здесь, здесь не могло быть этого… здесь
прокравшаяся в разбитую дверь позёмка стелилась между грудами окоченевших тел. Здесь
свет угасающего дня равнодушно скользил по мёртвым, покрытым сажей и кровью лицам — и
безмятежно-благостным ликам на стенах.
— Брате Еупатий…
Он не сразу понял, что окликают его. Оглянулся.
Черниговский воевода Феодор стоял рядом, глядел с суровой жалостью… У него ещё были
силы жалеть.
— Брате Еупатий, — повторил он, склоняя к воеводе иконописно красивую темноволосую
голову. — Не дозволяй скорби и отчаянию овладеть собою. Тем утешься, что одноземельцы
твои мученический венец приняли и ныне одесную Христа в царствии Его воссели.
Воевода почти удивился своему спокойствию. Нет ничего больнее утешений того, кто ничего
не терял. До чего ж он дошёл, если правильные, красивые, ровные и гладкие, словно жемчуг,
слова Феодора скатывались по его душе бесследно, не вызывая ни досады, ни гнева.
Он встал, развернулся, двинулся к разбитым дверям, миновав черниговца, словно место
пустое. Перед собором, в белокаменной арке с луковкой наверху, висел колокол. Его чужаки
почему-то не тронули.
Воевода подошёл к нему, взялся за верёвку, с хрустом отодрав от земли нижний конец.
— Ба-а-ам! Ба-а-амм! Ба-аммм!!!
Голос колокола нёсся над мёртвым городом. Не голос бирюча, зовущего на вече, или князя,
собирающего в поход. Стонущий крик матери на пепелище…
«Отзовитесь! Кто-нибудь! Кто-нибудь! Кто ещё жив?! Хоть кто-нибудь!!!» — надрывался
колокол.
Его голос улетал в бескрайние просторы заснеженных лесов под темнеющим небом, над
Page 5/125