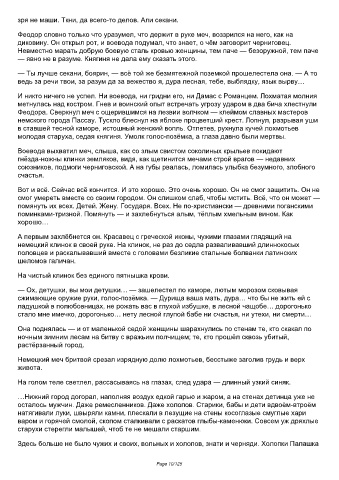Page 10 - Евпатий Коловрат
P. 10
зря не маши. Ткни, да всего-то делов. Али секани.
Феодор словно только что уразумел, что держит в руке меч, воззрился на него, как на
диковину. Он открыл рот, и воевода подумал, что знает, о чём заговорит черниговец.
Невместно марать добрую боевую сталь кровью женщины, тем паче — безоружной, тем паче
— явно не в разуме. Княгиня не дала ему сказать этого.
— Ты лучше секани, боярин, — всё той же безмятежной поземкой прошелестела она. — А то
ведь за речи твои, за разум да за вежество я, дура лесная, тебе, выблядку, язык вырву…
И никто ничего не успел. Ни воевода, ни гридни его, ни Дамас с Романцем. Лохматая молния
метнулась над костром. Гнев и воинский опыт встречать угрозу ударом в два бича хлестнули
Феодора. Сверкнул меч с ощерившимся на лезвии волчком — клеймом славных мастеров
немского города Пассау. Тускло блеснул на яблоке процветший крест. Лопнул, разрывая уши
в ставшей тесной каморе, истошный женский вопль. Отлетев, рухнула кучей лохмотьев
молодая старуха, седая княгиня. Умолк голос-позёмка, а глаза давно были мертвы.
Воевода выхватил меч, слыша, как со злым свистом соколиных крыльев покидают
гнёзда-ножны клинки земляков, видя, как щетинится мечами строй врагов — недавних
союзников, подмоги черниговской. А на губы рвалась, ломилась улыбка безумного, злобного
счастья.
Вот и всё. Сейчас всё кончится. И это хорошо. Это очень хорошо. Он не смог защитить. Он не
смог умереть вместе со своим городом. Он слишком слаб, чтобы мстить. Всё, что он может —
помянуть их всех. Детей. Жену. Государя. Всех. Не по-христиански — древними поганскими
поминками-тризной. Помянуть — и захлебнуться алым, тёплым хмельным вином. Как
хорошо…
А первым захлёбнется он. Красавец с греческой иконы, чужими глазами глядящий на
немецкий клинок в своей руке. На клинок, не раз до седла разваливавший длиннокосых
половцев и раскалывавший вместе с головами безликие стальные болванки латинских
шеломов галичан.
На чистый клинок без единого пятнышка крови.
— Ох, детушки, вы мои детушки… — зашелестел по каморе, лютым морозом сковывая
сжимающие оружие руки, голос-позёмка. — Дурища ваша мать, дура… что бы не жить ей с
ладушкой в полюбовницах, не рожать вас в глухой избушке, в лесной чащобе… дорогонько
стало мне имечко, дорогонько… нету лесной глупой бабе ни счастья, ни утехи, ни смерти…
Она поднялась — и от маленькой седой женщины шарахнулись по стенам те, кто скакал по
ночным зимним лесам на битву с вражьим полчищем; те, кто прошёл сквозь убитый,
растёрзанный город.
Немецкий меч бритвой срезал изрядную долю лохмотьев, бесстыже заголив грудь и верх
живота.
На голом теле светлел, рассасываясь на глазах, след удара — длинный узкий синяк.
…Нижний город догорал, наполняя воздух едкой гарью и жаром, а на стенах детинца уже не
осталось мужчин. Даже ремесленников. Даже холопов. Старики, бабы и дети вдвоём-втроём
натягивали луки, швыряли камни, плескали в лезущие на стены косоглазые смуглые хари
варом и горячей смолой, скопом сталкивали с раскатов глыбы-каменюки. Совсем уж дряхлые
старухи стерегли малышей, чтоб те не мешали старшим.
Здесь больше не было чужих и своих, вольных и холопов, знати и черняди. Холопки Палашка
Page 10/125