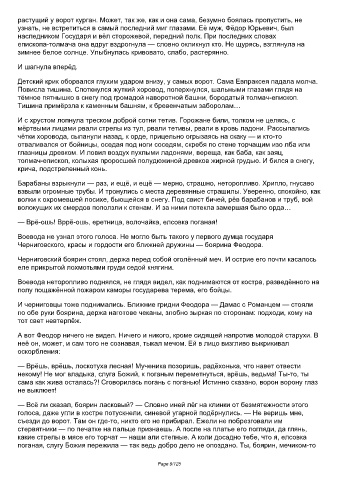Page 9 - Евпатий Коловрат
P. 9
растущий у ворот курган. Может, так же, как и она сама, безумно боялась пропустить, не
узнать, не встретиться в самый последний миг глазами. Её муж, Фёдор Юрьевич, был
наследником Государя и вёл сторожевой, передний полк. При последних словах
епископа-толмача она вдруг вздрогнула — словно окликнул кто. Не щурясь, взглянула на
зимнее белое солнце. Улыбнулась кривовато, слабо, растерянно.
И шагнула вперёд.
Детский крик оборвался глухим ударом внизу, у самых ворот. Сама Евпраксея падала молча.
Повисла тишина. Споткнулся жуткий хоровод, поперхнулся, шальными глазами глядя на
тёмное пятнышко в снегу под громадой наворотной башни, бородатый толмач-епископ.
Тишина примёрзла к каменным башням, к бревенчатым заборолам…
И с хрустом лопнула треском доброй сотни тетив. Горожане били, толком не целясь, с
мёртвыми лицами рвали стрелы из тул, рвали тетивы, рвали в кровь ладони. Рассыпались
чётки хоровода, сыпанули назад, к орде, прицельно огрызаясь на скаку — и кто-то
отваливался от бойницы, оседая под ноги соседям, скребя по стене торчащим изо лба или
глазницы древком. И ловил воздух пухлыми ладонями, вереща, как баба, как заяц,
толмач-епископ, колыхая проросшей полудюжиной древков жирной грудью. И бился в снегу,
крича, подстреленный конь.
Барабаны взрыкнули — раз, и ещё, и ещё — мерно, страшно, неторопливо. Хрипло, гнусаво
взвыли огромные трубы. И тронулись с места деревянные страшилы. Уверенно, спокойно, как
волки к охромевшей лосихе, бьющейся в снегу. Под свист бичей, рёв барабанов и труб, вой
волокущих их смердов поползли к стенам. И за ними потекла замершая было орда…
— Врё-ошь! Вррё-ошь, еретница, волочайка, елсовка поганая!
Воевода не узнал этого голоса. Не могло быть такого у первого думца государя
Черниговского, красы и гордости его ближней дружины — боярина Феодора.
Черниговский боярин стоял, держа перед собой оголённый меч. И острие его почти касалось
еле прикрытой лохмотьями груди седой княгини.
Воевода неторопливо поднялся, не глядя видел, как поднимаются от костра, разведённого на
полу пощажённой пожаром каморы государева терема, его бойцы.
И черниговцы тоже поднимались. Ближние гридни Феодора — Дамас с Романцем — стояли
по обе руки боярина, держа наготове чеканы, злобно зыркая по сторонам: подходи, кому на
тот свет невтерпёж.
А вот Феодор ничего не видел. Ничего и никого, кроме сидящей напротив молодой старухи. В
неё он, может, и сам того не сознавая, тыкал мечом. Ей в лицо визгливо выкрикивал
оскорбления:
— Врёшь, врёшь, лоскотуха лесная! Мученика позоришь, радёхонька, что навет отвести
некому! Не мог владыка, слуга Божий, к поганым переметнуться, врёшь, ведьма! Ты-то, ты
сама как жива осталась?! Сговорилась погань с поганью! Истинно сказано, ворон ворону глаз
не выклюет!
— Всё ли сказал, боярин ласковый? — Словно иней лёг на клинки от безмятежности этого
голоса, даже угли в костре потускнели, синевой угарной подёрнулись. — Не веришь мне,
съезди до ворот. Там он где-то, никто его не прибирал. Ежели не побрезговали им
стервятники — по печатке на пальце признаешь. А после на платье его погляди, да глянь,
какие стрелы в мясе его торчат — наши али степные. А коли досадно тебе, что я, елсовка
поганая, слугу Божия пережила — так ведь добро дело не опоздано. Ты, боярин, мечиком-то
Page 9/125