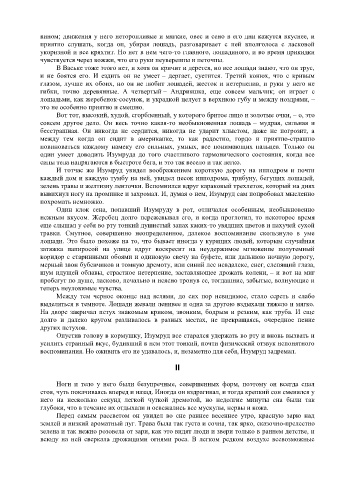Page 2 - Изумруд
P. 2
вином; движения у него неторопливые и мягкие, овес и сено в его дни кажутся вкуснее, и
приятно слушать, когда он, убирая лошадь, разговаривает с ней вполголоса с ласковой
укоризной и все кряхтит. Но нет в нем чего-то главного, лошадиного, и во время прикидки
чувствуется через вожжи, что его руки неуверенны и неточны.
В Ваське тоже этого нет, и хотя он кричит и дерется, но все лошади знают, что он трус,
и не боятся его. И ездить он не умеет – дергает, суетится. Третий конюх, что с кривым
глазом, лучше их обоих, но он не любит лошадей, жесток и нетерпелив, и руки у него не
гибки, точно деревянные. А четвертый – Андрияшка, еще совсем мальчик; он играет с
лошадьми, как жеребенок-сосунок, и украдкой целует в верхнюю губу и между ноздрями, –
это не особенно приятно и смешно.
Вот тот, высокий, худой, сгорбленный, у которого бритое лицо и золотые очки, – о, это
совсем другое дело. Он весь точно какая-то необыкновенная лошадь – мудрая, сильная и
бесстрашная. Он никогда не сердится, никогда не ударит хлыстом, даже не погрозит, а
между тем когда он сидит в американке, то как радостно, гордо и приятно-страшно
повиноваться каждому намеку его сильных, умных, все понимающих пальцев. Только он
один умеет доводить Изумруда до того счастливого гармонического состояния, когда все
силы тела напрягаются в быстроте бега, и это так весело и так легко.
И тотчас же Изумруд увидел воображением короткую дорогу на ипподром и почти
каждый дом и каждую тумбу на ней, увидел песок ипподрома, трибуну, бегущих лошадей,
зелень травы и желтизну ленточки. Вспомнился вдруг караковый трехлеток, который на днях
вывихнул ногу на проминке и захромал. И, думая о нем, Изумруд сам попробовал мысленно
похромать немножко.
Один клок сена, попавший Изумруду в рот, отличался особенным, необыкновенно
нежным вкусом. Жеребец долго пережевывал его, и когда проглотил, то некоторое время
еще слышал у себя во рту тонкий душистый запах каких-то увядших цветов и пахучей сухой
травки. Смутное, совершенно неопределенное, далекое воспоминание скользнуло в уме
лошади. Это было похоже на то, что бывает иногда у курящих людей, которым случайная
затяжка папиросой на улице вдруг воскресит на неудержимое мгновение полутемный
коридор с старинными обоями и одинокую свечу на буфете, или дальнюю ночную дорогу,
мерный звон бубенчиков и томную дремоту, или синий лес невдалеке, снег, слепящий глаза,
шум идущей облавы, страстное нетерпение, заставляющее дрожать колени, – и вот на миг
пробегут по душе, ласково, печально и неясно тронув ее, тогдашние, забытые, волнующие и
теперь неуловимые чувства.
Между тем черное оконце над яслями, до сих пор невидимое, стало сереть и слабо
выделяться в темноте. Лошади жевали ленивее и одна за другою вздыхали тяжело и мягко.
На дворе закричал петух знакомым криком, звонким, бодрым и резким, как труба. И еще
долго и далеко кругом разливалось в разных местах, не прекращаясь, очередное пение
других петухов.
Опустив голову в кормушку, Изумруд все старался удержать во рту и вновь вызвать и
усилить странный вкус, будивший в нем этот тонкий, почти физический отзвук непонятного
воспоминания. Но оживить его не удавалось, и, незаметно для себя, Изумруд задремал.
II
Ноги и тело у него были безупречные, совершенных форм, поэтому он всегда спал
стоя, чуть покачиваясь вперед и назад. Иногда он вздрагивал, и тогда крепкий сон сменялся у
него на несколько секунд легкой чуткой дремотой, но недолгие минуты сна были так
глубоки, что в течение их отдыхали и освежались все мускулы, нервы и кожа.
Перед самым рассветом он увидел во сне раннее весеннее утро, красную зарю над
землей и низкий ароматный луг. Трава была так густа и сочна, так ярко, сказочно-прелестно
зелена и так нежно розовела от зари, как это видят люди и звери только в раннем детстве, и
всюду на ней сверкала дрожащими огнями роса. В легком редком воздухе всевозможные