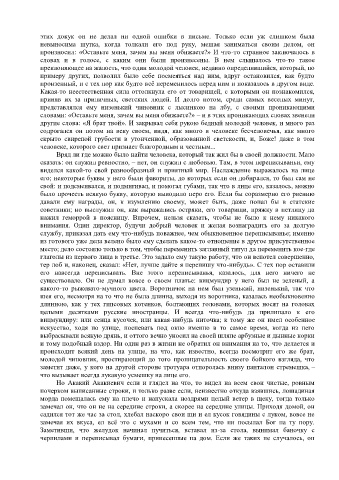Page 60 - Петербурские повести
P. 60
этих докук он не делал ни одной ошибки в письме. Только если уж слишком была
невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он
произносил: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И что-то странное заключалось в
словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое
преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по
примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто
пронзенный, и с тех пор как будто всё переменилось перед ним и показалось в другом виде.
Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился,
приняв их за приличных, светских людей. И долго потом, среди самых веселых минут,
представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими
словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» – и в этих проникающих словах звенели
другие слова: «Я брат твой». И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз
содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много
скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости, и, Боже! даже в том
человеке, которого свет признает благородным и честным...
Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей должности. Мало
сказать: он служил ревностно, – нет, он служил с любовью. Там, в этом переписываньи, ему
виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице
его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не
свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно
было прочесть всякую букву, которую выводило перо его. Если бы соразмерно его рвению
давали ему награды, он, к изумлению своему, может быть, даже попал бы в статские
советники; но выслужил он, как выражались остряки, его товарищи, пряжку в петлицу да
нажил геморрой в поясницу. Впрочем, нельзя сказать, чтобы не было к нему никакого
внимания. Один директор, будучи добрый человек и желая вознаградить его за долгую
службу, приказал дать ему что-нибудь поважнее, чем обыкновенное переписыванье; именно
из готового уже дела велено было ему сделать какое-то отношение в другое присутственное
место; дело состояло только в том, чтобы переменить заглавный титул да переменить кое-где
глаголы из первого лица в третье. Это задало ему такую работу, что он вспотел совершенно,
тер лоб и, наконец, сказал: «Нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь». С тех пор оставили
его навсегда переписывать. Вне этого переписыванья, казалось, для него ничего не
существовало. Он не думал вовсе о своем платье: вицмундир у него был не зеленый, а
какого-то рыжевато-мучного цвета. Воротничок на нем был узенький, низенький, так что
шея его, несмотря на то что не была длинна, выходя из воротника, казалась необыкновенно
длинною, как у тех гипсовых котенков, болтающих головами, которых носят на головах
целыми десятками русские иностранцы. И всегда что-нибудь да прилипало к его
вицмундиру: или сенца кусочек, или какая-нибудь ниточка; к тому же он имел особенное
искусство, ходя по улице, поспевать под окно именно в то самое время, когда из него
выбрасывали всякую дрянь, и оттого вечно уносил на своей шляпе арбузные и дынные корки
и тому подобный вздор. Ни один раз в жизни не обратил он внимания на то, что делается и
происходит всякий день на улице, на что, как известно, всегда посмотрит его же брат,
молодой чиновник, простирающий до того проницательность своего бойкого взгляда, что
заметит даже, у кого на другой стороне тротуара отпоролась внизу панталон стремешка, –
что вызывает всегда лукавую усмешку на лице его.
Но Акакий Акакиевич если и глядел на что, то видел на всем свои чистые, ровным
почерком выписанные строки, и только разве если, неизвестно откуда взявшись, лошадиная
морда помещалась ему на плечо и напускала ноздрями целый ветер в щеку, тогда только
замечал он, что он не на середине строки, а скорее на середине улицы. Приходя домой, он
садился тот же час за стол, хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе не
замечая их вкуса, ел всё это с мухами и со всем тем, что ни посылал Бог на ту пору.
Заметивши, что желудок начинал пучиться, вставал из-за стола, вынимал баночку с
чернилами и переписывал бумаги, принесенные на дом. Если же таких не случалось, он