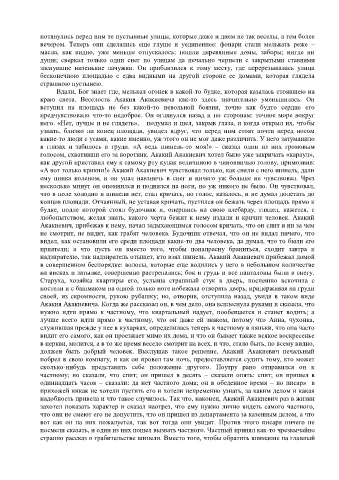Page 68 - Петербурские повести
P. 68
потянулись перед ним те пустынные улицы, которые даже и днем не так веселы, а тем более
вечером. Теперь они сделались еще глуше и уединеннее: фонари стали мелькать реже –
масла, как видно, уже меньше отпускалось; пошли деревянные домы, заборы; нигде ни
души; сверкал только один снег по улицам да печально чернели с закрытыми ставнями
заснувшие низенькие лачужки. Он приблизился к тому месту, где перерезывалась улица
бесконечною площадью с едва видными на другой стороне ее домами, которая глядела
страшною пустынею.
Вдали, Бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке, которая казалась стоявшею на
краю света. Веселость Акакия Акакиевича как-то здесь значительно уменьшилась. Он
вступил на площадь не без какой-то невольной боязни, точно как будто сердце его
предчувствовало что-то недоброе. Он оглянулся назад и по сторонам: точное море вокруг
него. «Нет, лучше и не глядеть», – подумал и шел, закрыв глаза, и когда открыл их, чтобы
узнать, близко ли конец площади, увидел вдруг, что перед ним стоят почти перед носом
какие-то люди с усами, какие именно, уж этого он не мог даже различить. У него затуманило
в глазах и забилось в груди. «А ведь шинель-то моя!» – сказал один из них громовым
голосом, схвативши его за воротник. Акакий Акакиевич хотел было уже закричать «караул»,
как другой приставил ему к самому рту кулак величиною в чиновничью голову, примолвив:
«А вот только крикни!» Акакий Акакиевич чувствовал только, как сняли с него шинель, дали
ему пинка коленом, и он упал навзничь в снег и ничего уж больше не чувствовал. Чрез
несколько минут он опомнился и поднялся на ноги, но уж никого не было. Он чувствовал,
что в поле холодно и шинели нет, стал кричать, но голос, казалось, и не думал долетать до
концов площади. Отчаянный, не уставая кричать, пустился он бежать через площадь прямо к
будке, подле которой стоял будочник и, опершись на свою алебарду, глядел, кажется, с
любопытством, желая знать, какого черта бежит к нему издали и кричит человек. Акакий
Акакиевич, прибежав к нему, начал задыхающимся голосом кричать, что он спит и ни за чем
не смотрит, не видит, как грабят человека. Будочник отвечал, что он не видал ничего, что
видел, как остановили его среди площади какие-то два человека, да думал, что то были его
приятели; а что пусть он вместо того, чтобы понапрасну браниться, сходит завтра к
надзирателю, так надзиратель отыщет, кто взял шинель. Акакий Акакиевич прибежал домой
в совершенном беспорядке: волосы, которые еще водились у него в небольшом количестве
на висках и затылке, совершенно растрепались; бок и грудь и все панталоны были в снегу.
Старуха, хозяйка квартиры его, услыша страшный стук в дверь, поспешно вскочила с
постели и с башмаком на одной только ноге побежала отворять дверь, придерживая на груди
своей, из скромности, рукою рубашку; но, отворив, отступила назад, увидя в таком виде
Акакия Акакиевича. Когда же рассказал он, в чем дело, она всплеснула руками и сказала, что
нужно идти прямо к частному, что квартальный надует, пообещается и станет водить; а
лучше всего идти прямо к частному, что он даже ей знаком, потому что Анна, чухонка,
служившая прежде у нее в кухарках, определилась теперь к частному в няньки, что она часто
видит его самого, как он проезжает мимо их дома, и что он бывает также всякое воскресенье
в церкви, молится, а в то же время весело смотрит на всех, и что, стало быть, по всему видно,
должен быть добрый человек. Выслушав такое решение, Акакий Акакиевич печальный
побрел в свою комнату, и как он провел там ночь, предоставляется судить тому, кто может
сколько-нибудь представить себе положение другого. Поутру рано отправился он к
частному; но сказали, что спит; он пришел в десять – сказали опять: спит; он пришел в
одиннадцать часов – сказали: да нет частного дома; он в обеденное время – но писаря в
прихожей никак не хотели пустить его и хотели непременно узнать, за каким делом и какая
надобность привела и что такое случилось. Так что, наконец, Акакий Акакиевич раз в жизни
захотел показать характер и сказал наотрез, что ему нужно лично видеть самого частного,
что они не смеют его не допустить, что он пришел из департамента за казенным делом, а что
вот как он на них пожалуется, так вот тогда они увидят. Против этого писаря ничего не
посмели сказать, и один из них пошел вызвать частного. Частный принял как-то чрезвычайно
странно рассказ о грабительстве шинели. Вместо того, чтобы обратить внимание на главный