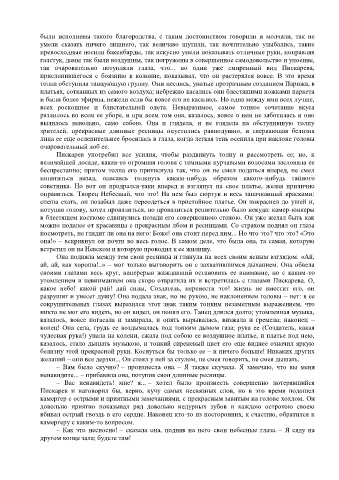Page 8 - Петербурские повести
P. 8
были исполнены такого благородства, с таким достоинством говорили и молчали, так не
умели сказать ничего лишнего, так величаво шутили, так почтительно улыбались, такие
превосходные носили бакенбарды, так искусно умели показывать отличные руки, поправляя
галстук, дамы так были воздушны, так погружены в совершенное самодовольство и упоение,
так очаровательно потупляли глаза, что... но один уже смиренный вид Пискарева,
прислонившегося с боязнию к колонне, показывал, что он растерялся вовсе. В это время
толпа обступила танцующую группу. Они неслись, увитые прозрачным созданием Парижа, в
платьях, сотканных из самого воздуха; небрежно касались они блестящими ножками паркета
и были более эфирны, нежели если бы вовсе его не касались. Но одна между ими всех лучше,
всех роскошнее и блистательней одета. Невыразимое, самое тонкое сочетание вкуса
разлилось во всем ее уборе, и при всем том она, казалось, вовсе о нем не заботилась и оно
вылилось невольно, само собою. Она и глядела, и не глядела на обступившую толпу
зрителей, прекрасные длинные ресницы опустились равнодушно, и сверкающая белизна
лица ее еще ослепительнее бросилась в глаза, когда легкая тень осенила при наклоне головы
очаровательный лоб ее.
Пискарев употребил все усилия, чтобы раздвинуть толпу и рассмотреть ее; но, к
величайшей досаде, какая-то огромная голова с темными курчавыми волосами заслоняла ее
беспрестанно; притом толпа его притиснула так, что он не смел податься вперед, не смел
попятиться назад, опасаясь толкнуть каким-нибудь образом какого-нибудь тайного
советника. Но вот он продрался-таки вперед и взглянул на свое платье, желая прилично
оправиться. Творец Небесный, что это! На нем был сюртук и весь запачканный красками:
спеша ехать, он позабыл даже переодеться в пристойное платье. Он покраснел до ушей и,
потупив голову, хотел провалиться, но провалиться решительно было некуда: камер-юнкеры
в блестящем костюме сдвинулись позади его совершенною стеною. Он уже желал быть как
можно подалее от красавицы с прекрасным лбом и ресницами. Со страхом поднял он глаза
посмотреть, не глядит ли она на него: Боже! она стоит перед ним... Но что это? что это? «Это
она!» – вскрикнул он почти во весь голос. В самом деле, это была она, та самая, которую
встретил он на Невском и которую проводил к ее жилищу.
Она подняла между тем свои ресницы и глянула на всех своим ясным взглядом. «Ай,
ай, ай, как хороша!..» – мог только выговорить он с захватившимся дыханием. Она обвела
своими глазами весь круг, наперерыв жаждавший остановить ее внимание, но с каким-то
утомлением и невниманием она скоро отвратила их и встретилась с глазами Пискарева. О,
какое небо! какой рай! дай силы, Создатель, перенести это! жизнь не вместит его, он
разрушит и унесет душу! Она подала знак, но не рукою, не наклонением головы – нет: в ее
сокрушительных глазах выразился этот знак таким тонким незаметным выражением, что
никто не мог его видеть, но он видел, он понял его. Танец длился долго; утомленная музыка,
казалось, вовсе погасала и замирала, и опять вырывалась, визжала и гремела; наконец –
конец! Она села, грудь ее воздымалась под тонким дымом газа; рука ее (Создатель, какая
чудесная рука!) упала на колени, сжала под собою ее воздушное платье, и платье под нею,
казалось, стало дышать музыкою, и тонкий сиреневый цвет его еще виднее означил яркую
белизну этой прекрасной руки. Коснуться бы только ее – и ничего больше! Никаких других
желаний – они все дерзки... Он стоял у ней за стулом, не смея говорить, не смея дышать.
– Вам было скучно? – произнесла она. – Я также скучала. Я замечаю, что вы меня
ненавидите... – прибавила она, потупив свои длинные ресницы.
– Вас ненавидеть! мне? я... – хотел было произнесть совершенно потерявшийся
Пискарев и наговорил бы, верно, кучу самых несвязных слов, но в это время подошел
камергер с острыми и приятными замечаниями, с прекрасным завитым на голове хохлом. Он
довольно приятно показывал ряд довольно недурных зубов и каждою остротою своею
вбивал острый гвоздь в его сердце. Наконец кто-то из посторонних, к счастию, обратился к
камергеру с каким-то вопросом.
– Как это несносно! – сказала она, подняв на него свои небесные глаза. – Я сяду на
другом конце зала; будьте там!