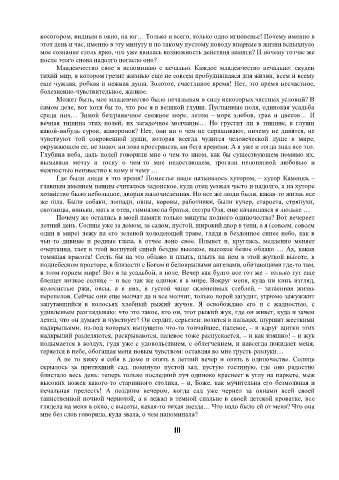Page 2 - Жизнь Арсеньева
P. 2
косогором, видным в окно, на юг… Только и всего, только одно мгновенье! Почему именно в
этот день и час, именно в эту минуту и по такому пустому поводу впервые в жизни вспыхнуло
мое сознание столь ярко, что уже явилась возможность действия памяти? И почему тотчас же
после этого снова надолго погасло оно?
Младенчество свое я вспоминаю с печалью. Каждое младенчество печально: скуден
тихий мир, в котором грезит жизнью еще не совсем пробудившаяся для жизни, всем и всему
еще чуждая, робкая и нежная душа. Золотое, счастливое время! Нет, это время несчастное,
болезненно-чувствительное, жалкое.
Может быть, мое младенчество было печальным в силу некоторых частных условий? В
самом деле, вот хотя бы то, что рос я в великой глуши. Пустынные поля, одинокая усадьба
среди них… Зимой безграничное снежное море, летом – море хлебов, трав и цветов… И
вечная тишина этих полей, их загадочное молчание… Но грустит ли в тишине, в глуши
какой-нибудь сурок, жаворонок? Нет, они ни о чем не спрашивают, ничему не дивятся, не
чувствуют той сокровенной души, которая всегда чудится человеческой душе в мире,
окружающем ее, не знают ни зова пространств, ни бега времени. А я уже и тогда знал все это.
Глубина неба, даль полей говорили мне о чем-то ином, как бы существующем помимо их,
вызывали мечту и тоску о чем-то мне недостающем, трогали непонятной любовью и
нежностью неизвестно к кому и чему …
Где были люди в это время? Поместье наше называлось хутором, – хутор Каменка, –
главным имением нашим считалось задонское, куда отец уезжал часто и надолго, а на хуторе
хозяйство было небольшое, дворня малочисленная. Но все же люди были, какая-то жизнь все
же шла. Были собаки, лошади, овцы, коровы, работники, были кучер, староста, стряпухи,
скотницы, няньки, мать и отец, гимназисты братья, сестра Оля, еще качавшаяся в люльке …
Почему же остались в моей памяти только минуты полного одиночества? Вот вечереет
летний день. Солнце уже за домом, за садом, пустой, широкий двор в тени, а я (совсем, совсем
один в мире) лежу на его зеленой холодеющей траве, глядя в бездонное синее небо, как в
чьи-то дивные и родные глаза, в отчее лоно свое. Плывет и, круглясь, медленно меняет
очертания, тает в этой вогнутой синей бездне высокое, высокое белое облако … Ах, какая
томящая красота! Сесть бы на это облако и плыть, плыть на нем в этой жуткой высоте, в
поднебесном просторе, в близости с Богом и белокрылыми ангелами, обитающими где-то там,
в этом горнем мире! Вот я за усадьбой, в поле. Вечер как будто все тот же – только тут еще
блещет низкое солнце – и все так же одинок я в мире. Вокруг меня, куда ни кинь взгляд,
колосистые ржи, овсы, а в них, в густой чаще склоненных стеблей, – затаенная жизнь
перепелов. Сейчас они еще молчат да и все молчит, только порой загудит, угрюмо зажужжит
запутавшийся в колосьях хлебный рыжий жучок. Я освобождаю его и с жадностью, с
удивленьем разглядываю: что это такое, кто он, этот рыжий жук, где он живет, куда и зачем
летел, что он думает и чувствует? Он сердит, серьезен: возится в пальцах, шуршит жесткими
надкрыльями, из-под которых выпущено что-то тончайшее, палевое, – и вдруг щитки этих
надкрылий разделяются, раскрываются, палевое тоже распускается, – и как изящно! – и жук
подымается в воздух, гудя уже с удовольствием, с облегчением, и навсегда покидает меня,
теряется в небе, обогащая меня новым чувством: оставляя во мне грусть разлуки…
А не то вижу я себя в доме и опять в летний вечер и опять в одиночестве. Солнце
скрылось за притихший сад, покинуло пустой зал, пустую гостиную, где оно радостно
блистало весь день: теперь только последний луч одиноко краснеет в углу на паркете, меж
высоких ножек какого-то старинного столика, – и, Боже, как мучительна его безмолвная и
печальная прелесть! А поздним вечером, когда сад уже чернел за окнами всей своей
таинственной ночной чернотой, а я лежал в темной спальне в своей детской кроватке, все
глядела на меня в окно, с высоты, какая-то тихая звезда… Что надо было ей от меня? Что она
мне без слов говорила, куда звала, о чем напоминала?
III