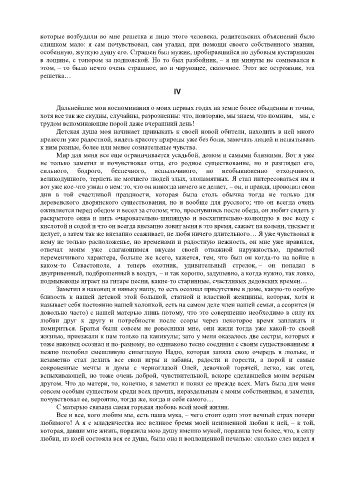Page 4 - Жизнь Арсеньева
P. 4
которые возбудили во мне решетка и лицо этого человека, родительских объяснений было
слишком мало: я сам почувствовал, сам угадал, при помощи своего собственного знания,
особенную, жуткую душу его. Страшен был мужик, пробиравшийся по дубовым кустарникам
в лощине, с топором за подпояской. Но то был разбойник, – я ни минуты не сомневался в
этом, – то было нечто очень страшное, но и чарующее, сказочное. Этот же острожник, эта
решетка…
IV
Дальнейшие мои воспоминания о моих первых годах на земле более обыденны и точны,
хотя все так же скудны, случайны, разрозненны: что, повторяю, мы знаем, что помним, – мы, с
трудом вспоминающие порой даже вчерашний день!
Детская душа моя начинает привыкать к своей новой обители, находить в ней много
прелести уже радостной, видеть красоту природы уже без боли, замечать людей и испытывать
к ним разные, более или менее сознательные чувства.
Мир для меня все еще ограничивается усадьбой, домом и самыми близкими. Вот я уже
не только заметил и почувствовал отца, его родное существование, но и разглядел его,
сильного, бодрого, беспечного, вспыльчивого, но необыкновенно отходчивого,
великодушного, терпеть не могшего людей злых, злопамятных. Я стал интересоваться им и
вот уже кое-что узнал о нем: то, что он никогда ничего не делает, – он, и правда, проводил свои
дни в той счастливой праздности, которая была столь обычна тогда не только для
деревенского дворянского существования, но и вообще для русского; что он всегда очень
оживляется перед обедом и весел за столом; что, проснувшись после обеда, он любит сидеть у
раскрытого окна и пить очаровательно-шипящую и восхитительно-колющую в нос воду с
кислотой и содой и что он всегда внезапно ловит меня в это время, сажает на колени, тискает и
целует, а затем так же внезапно ссаживает, не любя ничего длительного… Я уже чувствовал к
нему не только расположенье, но временами и радостную нежность, он мне уже нравился,
отвечал моим уже слагающимся вкусам своей отважной наружностью, прямотой
переменчивого характера, больше же всего, кажется, тем, что был он когда-то на войне в
каком-то Севастополе, а теперь охотник, удивительный стрелок, – он попадал в
двугривенный, подброшенный в воздух, – и так хорошо, задушевно, а когда нужно, так ловко,
подмывающе играет на гитаре песни, какие-то старинные, счастливых дедовских времен…
Заметил я наконец и няньку нашу, то есть осознал присутствие в доме, какую-то особую
близость к нашей детской этой большой, статной и властной женщины, которая, хотя и
называет себя постоянно нашей холопкой, есть на самом деле член нашей семьи, а ссорится (и
довольно часто) с нашей матерью лишь потому, что это совершенно необходимо в силу их
любви друг к другу и потребности после ссоры через некоторое время заплакать и
помириться. Братья были совсем не ровесники мне, они жили тогда уже какой-то своей
жизнью, приезжали к нам только на каникулы; зато у меня оказалось две сестры, которых я
тоже наконец осознал и по-разному, но одинаково тесно соединил с своим существованием: я
нежно полюбил смешливую синеглазую Надю, которая заняла свою очередь в люльке, и
незаметно стал делить все свои игры и забавы, радости и горести, а порой и самые
сокровенные мечты и думы с черноглазой Олей, девочкой горячей, легко, как отец,
вспыхивающей, но тоже очень доброй, чувствительной, вскоре сделавшейся моим верным
другом. Что до матери, то, конечно, я заметил и понял ее прежде всех. Мать была для меня
совсем особым существом среди всех прочих, нераздельным с моим собственным, я заметил,
почувствовал ее, вероятно, тогда же, когда и себя самого…
С матерью связана самая горькая любовь всей моей жизни.
Все и все, кого любим мы, есть наша мука, – чего стоит один этот вечный страх потери
любимого! А я с младенчества нес великое бремя моей неизменной любви к ней, – к той,
которая, давши мне жизнь, поразила мою душу именно мукой, поразила тем более, что, в силу
любви, из коей состояла вся ее душа, была она и воплощенной печалью: сколько слез видел я