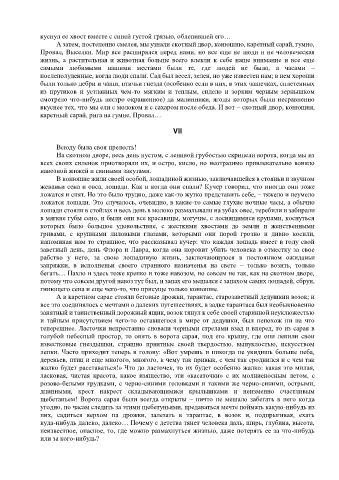Page 7 - Жизнь Арсеньева
P. 7
куснул ее хвост вместе с синей густой грязью, облепившей его…
А затем, постепенно смелея, мы узнали скотный двор, конюшню, каретный сарай, гумно,
Провал, Выселки. Мир все расширялся перед нами, но все еще не люди и не человеческая
жизнь, а растительная и животная больше всего влекли к себе наше внимание и все еще
самыми любимыми нашими местами были те, где людей не было, а часами –
послеполуденные, когда люди спали. Сад был весел, зелен, но уже известен нам; в нем хороши
были только дебри и чащи, птичьи гнезда (особенно если в них, в этих чашечках, сплетенных
из прутиков и устланных чем-то мягким и теплым, сидело и зорким черным зернышком
смотрело что-нибудь пестро окрашенное) да малинники, ягоды которых были несравненно
вкуснее тех, что мы ели с молоком и с сахаром после обеда. И вот – скотный двор, конюшня,
каретный сарай, рига на гумне, Провал…
VII
Всюду была своя прелесть!
На скотном дворе, весь день пустом, с ленивой грубостью скрипели ворота, когда мы из
всех своих силенок приотворяли их, и остро, кисло, но неотразимо привлекательно воняло
навозной жижей и свиными закутами.
В конюшне жили своей особой, лошадиной жизнью, заключавшейся в стояньи и звучном
жеваньи сена и овса, лошади. Как и когда они спали? Кучер говорил, что иногда они тоже
ложатся и спят. Но это было трудно, даже как-то жутко представить себе, – тяжело и неумело
ложатся лошади. Это случалось, очевидно, в какие-то самые глухие ночные часы, а обычно
лошади стояли в стойлах и весь день в молоко размалывали на зубах овес, теребили и забирали
в мягкие губы сено, и были они все красавицы, могучие, с лоснящимися крупами, коснуться
которых было большое удовольствие, с жесткими хвостами до земли и женственными
гривами, с крупными лиловыми глазами, которыми они порой грозно и дивно косили,
напоминая нам то страшное, что рассказывал кучер: что каждая лошадь имеет в году свой
заветный день, день Флора и Лавра, когда она норовит убить человека в отместку за свое
рабство у него, за свою лошадиную жизнь, заключающуюся в постоянном ожиданьи
запряжки, в исполненьи своего странного назначенья на свете – только возить, только
бегать… Пахло и здесь тоже крепко и тоже навозом, но совсем не так, как на скотном дворе,
потому что совсем другой навоз тут был, и запах его мешался с запахом самих лошадей, сбруи,
гниющего сена и еще чего-то, что присуще только конюшне.
А в каретном сарае стояли беговые дрожки, тарантас, старозаветный дедушкин возок; и
все это соединялось с мечтами о далеких путешествиях, в задке тарантаса был необыкновенно
занятный и таинственный дорожный ящик, возок тянул к себе своей старинной неуклюжестью
и тайным присутствием чего-то оставшегося в мире от дедушки, был непохож ни на что
теперешнее. Ласточки непрестанно сновали черными стрелами взад и вперед, то из сарая в
голубой небесный простор, то опять в ворота сарая, под его крышу, где они лепили свои
известковые гнездышки, страшно приятные своей твердостью, выпуклостью, искусством
лепки. Часто приходит теперь в голову: «Вот умрешь и никогда не увидишь больше неба,
деревьев, птиц и еще многого, многого, к чему так привык, с чем так сроднился и с чем так
жалко будет расставаться!» Что до ласточек, то их будет особенно жалко: какая это милая,
ласковая, чистая красота, какое изящество, эти «касаточки» с их молниеносным летом, с
розово-белыми грудками, с черно-синими головками и такими же черно-синими, острыми,
длинными, крест накрест складывающимися крылышками и неизменно счастливым
щебетаньем! Ворота сарая были всегда открыты – ничто не мешало забегать в него когда
угодно, по часам следить за этими щебетуньями, предаваться мечте поймать какую-нибудь из
них, садиться верхом на дрожки, залезать в тарантас, в возок и, подпрыгивая, ехать
куда-нибудь далеко, далеко… Почему с детства тянет человека даль, ширь, глубина, высота,
неизвестное, опасное, то, где можно размахнуться жизнью, даже потерять ее за что-нибудь
или за кого-нибудь?