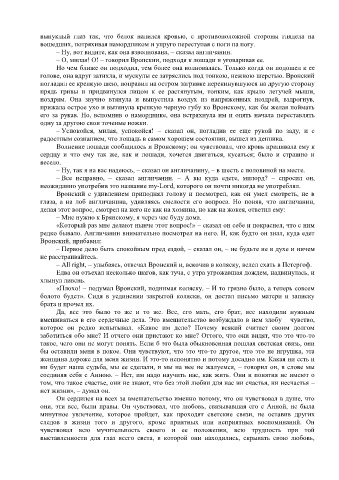Page 107 - Анна Каренина
P. 107
выпуклый глаз так, что белок налился кровью, с противоположной стороны глядела на
вошедших, потряхивая намордником и упруго переступая с ноги на ногу.
– Ну, вот видите, как она взволнована, – сказал англичанин.
– О, милая! О! – говорил Вронскии, подходя к лошади и уговаривая ее.
Но чем ближе он подходил, тем более она волновалась. Только когда он подошел к ее
голове, она вдруг затихла, и мускулы ее затряслись под тонкою, нежною шерстью. Вронский
погладил ее крепкую шею, поправил на остром загривке перекинувшуюся на другую сторону
прядь гривы и придвинулся лицом к ее растянутым, тонким, как крыло летучей мыши,
ноздрям. Она звучно втянула и выпустила воздух из напряженных ноздрей, вздрогнув,
прижала острое ухо и вытянула крепкую черную губу ко Вронскому, как бы желая поймать
его за рукав. Но, вспомнив о наморднике, она встряхнула им и опять начала переставлять
одну за другою свои точеные ножки.
– Успокойся, милая, успокойся! – сказал он, погладив ее еще рукой по заду, и с
радостным сознанием, что лошадь в самом хорошем состоянии, вышел из денника.
Волнение лошади сообщилось и Вронскому; он чувствовал, что кровь приливала ему к
сердцу и что ему так же, как и лошади, хочется двигаться, кусаться; было и страшно и
весело.
– Ну, так я на вас надеюсь, – сказал он англичанину, – в шесть с половиной на месте.
– Все исправно, – сказал англичанин. – А вы куда едете, милорд? – спросил он,
неожиданно употребив это название my-Lогd, которого он почти никогда не употреблял.
Вронский с удивлением приподнял голову и посмотрел, как он умел смотреть, не в
глаза, а на лоб англичанина, удивляясь смелости его вопроса. Но поняв, что англичанин,
делая этот вопрос, смотрел на него не как на хозяина, но как на жокея, ответил ему:
– Мне нужно к Брянскому, я через час буду дома.
«Который раз мне делают нынче этот вопрос!» – сказал он себе и покраснел, что с ним
редко бывало. Англичанин внимательно посмотрел на него. И, как будто он знал, куда едет
Вронский, прибавил:
– Первое дело быть спокойным пред ездой, – сказал он, – не будьте не в духе и ничем
не расстраивайтесь.
– All right, – улыбаясь, отвечал Вронский и, вскочив в коляску, велел ехать в Петергоф.
Едва он отъехал несколько шагов, как туча, с утра угрожавшая дождем, надвинулась, и
хлынул ливень.
«Плохо! – подумал Вронский, поднимая коляску. – И то грязно было, а теперь совсем
болото будет». Сидя в уединении закрытой коляски, он достал письмо матери и записку
брата и прочел их.
Да, все это было то же и то же. Все, его мать, его брат, все находили нужным
вмешиваться в его сердечные дела. Это вмешательство возбуждало в нем злобу – чувство,
которое он редко испытывал. «Какое им дело? Почему всякий считает своим долгом
заботиться обо мне? И отчего они пристают ко мне? Оттого, что они видят, что это что-то
такое, чего они не могут понять. Если б это была обыкновенная пошлая светская связь, они
бы оставили меня в покое. Они чувствуют, что это что-то другое, что это не игрушка, эта
женщина дороже для меня жизни. И это-то непонятно и потому досадно им. Какая ни есть и
ни будет наша судьба, мы ее сделали, и мы на нее не жалуемся, – говорил он, в слове мы
соединяя себя с Анною. – Нет, им надо научить нас, как жить. Они и понятия не имеют о
том, что такое счастье, они не знают, что без этой любви для нас ни счастья, ни несчастья –
нет жизни», – думал он.
Он сердился на всех за вмешательство именно потому, что он чувствовал в душе, что
они, эти все, были правы. Он чувствовал, что любовь, связывавшая его с Анной, не была
минутное увлечение, которое пройдет, как проходят светские связи, не оставив других
следов в жизни того и другого, кроме приятных или неприятных воспоминаний. Он
чувствовал всю мучительность своего и ее положения, всю трудность при той
выставленности для глаз всего света, в которой они находились, скрывать свою любовь,