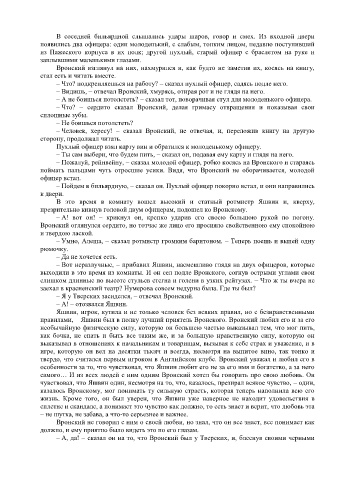Page 103 - Анна Каренина
P. 103
В соседней бильярдной слышались удары шаров, говор и смех. Из входной двери
появились два офицера: один молоденький, с слабым, тонким лицом, недавно поступивший
из Пажеского корпуса в их полк; другой пухлый, старый офицер с браслетом на руке и
заплывшими маленькими глазами.
Вронский взглянул на них, нахмурился и, как будто не заметив их, косясь на книгу,
стал есть и читать вместе.
– Что? подкрепляешься на работу? – сказал пухлый офицер, садясь подле него.
– Видишь, – отвечал Вронский, хмурясь, отирая рот и не глядя на него.
– А не боишься потолстеть? – сказал тот, поворачивая стул для молоденького офицера.
– Что? – сердито сказал Вронский, делая гримасу отвращения и показывая свои
сплошные зубы.
– Не боишься потолстеть?
– Человек, хересу! – сказал Вронский, не отвечая, и, переложив книгу на другую
сторону, продолжал читать.
Пухлый офицер взял карту вин и обратился к молоденькому офицеру.
– Ты сам выбери, что будем пить, – сказал он, подавая ему карту и глядя на него.
– Пожалуй, рейнвейну, – сказал молодой офицер, робко косясь на Вронского и стараясь
поймать пальцами чуть отросшие усики. Видя, что Вронский не оборачивается, молодой
офицер встал.
– Пойдем в бильярдную, – сказал он. Пухлый офицер покорно встал, и они направились
к двери.
В это время в комнату вошел высокий и статный ротмистр Яшвин и, кверху,
презрительно кивнув головой двум офицерам, подошел ко Вронскому.
– А! вот он! – крикнул он, крепко ударив его своею большою рукой по погону.
Вронский оглянулся сердито, но тотчас же лицо его просияло свойственною ему спокойною
и твердою лаской.
– Умно, Алеша, – сказал ротмистр громким баритоном. – Теперь поешь и выпей одну
рюмочку.
– Да не хочется есть.
– Вот неразлучные, – прибавил Яшвин, насмешливо глядя на двух офицеров, которые
выходили в это время из комнаты. И он сел подле Вронского, согнув острыми углами свои
слишком длинные по высоте стульев стегна и голени в узких рейтузах. – Что ж ты вчера не
заехал в красненский театр? Нумерова совсем недурна была. Где ты был?
– Я у Тверских засиделся, – отвечал Вронский.
– А! – отозвался Яшвин.
Яшвин, игрок, кутила и не только человек без всяких правил, но с безнравственными
правилами, – Яшвин был в полку лучший приятель Вронского. Вронский любил его и за его
необычайную физическую силу, которую он большею частью выказывал тем, что мог пить,
как бочка, не спать и быть все таким же, и за большую нравственную силу, которую он
выказывал в отношениях к начальникам и товарищам, вызывая к себе страх и уважение, и в
игре, которую он вел на десятки тысяч и всегда, несмотря на выпитое вино, так тонко и
твердо, что считался первым игроком в Английском клубе. Вронский уважал и любил его в
особенности за то, что чувствовал, что Яшвин любит его не за его имя и богатство, а за него
самого… И из всех людей с ним одним Вронский хотел бы говорить про свою любовь. Он
чувствовал, что Яшвин один, несмотря на то, что, казалось, презирал всякое чувство, – один,
казалось Вронскому, мог понимать ту сильную страсть, которая теперь наполнила всю его
жизнь. Кроме того, он был уверен, что Яшвин уже наверное не находит удовольствия в
сплетне и скандале, а понимает это чувство как должно, то есть знает и верит, что любовь эта
– не шутка, не забава, а что-то серьезнее и важнее.
Вронский не говорил с ним о своей любви, но знал, что он все знает, все понимает как
должно, и ему приятно было видеть это по его глазам.
– А, да! – сказал он на то, что Вронский был у Тверских, и, блеснув своими черными