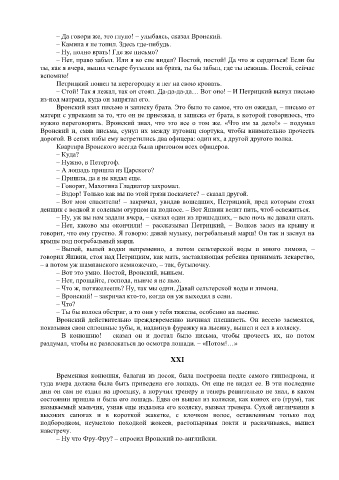Page 105 - Анна Каренина
P. 105
– Да говори же, это глупо! – улыбаясь, сказал Вронский.
– Камина я не топил. Здесь где-нибудь.
– Ну, полно врать! Где же письмо?
– Нет, право забыл. Или я во сне видел? Постой, постой! Да что ж сердиться! Если бы
ты, как я вчера, выпил четыре бутылки на брата, ты бы забыл, где ты лежишь. Постой, сейчас
вспомню!
Петрицкий пошел за перегородку и лег на свою кровать.
– Стой! Так я лежал, так он стоял. Да-да-да-да… Вот оно! – И Петрицкий вынул письмо
из-под матраца, куда он запрятал его.
Вронский взял письмо и записку брата. Это было то самое, что он ожидал, – письмо от
матери с упреками за то, что он не приезжал, и записка от брата, в которой говорилось, что
нужно переговорить. Вронский знал, что это все о том же. «Что им за дело!» – подумал
Вронский и, смяв письма, сунул их между пуговиц сюртука, чтобы внимательно прочесть
дорогой. В сенях избы ему встретились два офицера: один их, а другой другого полка.
Квартира Вронского всегда была притоном всех офицеров.
– Куда?
– Нужно, в Петергоф.
– А лошадь пришла из Царского?
– Пришла, да я не видал еще.
– Говорят, Махотина Гладиатор захромал.
– Вздор! Только как вы по этой грязи поскачете? – сказал другой.
– Вот мои спасители! – закричал, увидав вошедших, Петрицкий, пред которым стоял
денщик с водкой и соленым огурцом на подносе. – Вот Яшвин велит пить, чтоб освежиться.
– Ну, уж вы нам задали вчера, – сказал один из пришедших, – всю ночь не давали спать.
– Нет, каково мы окончили! – рассказывал Петрицкий, – Волков залез на крышу и
говорит, что ему грустно. Я говорю: давай музыку, погребальный марш! Он так и заснул на
крыше под погребальный марш.
– Выпей, выпей водки непременно, а потом сельтерской воды и много лимона, –
говорил Яшвин, стоя над Петрицким, как мать, заставляющая ребенка принимать лекарство,
– а потом уж шампанского немножечко, – так, бутылочку.
– Вот это умно. Постой, Вронский, выпьем.
– Нет, прощайте, господа, нынче я не пью.
– Что ж, потяжелеешь? Ну, так мы одни. Давай сельтерской воды и лимона.
– Вронский! – закричал кто-то, когда он уж выходил в сени.
– Что?
– Ты бы волоса обстриг, а то они у тебя тяжелы, особенно на лысине.
Вронский действительно преждевременно начинал плешиветь. Он весело засмеялся,
показывая свои сплошные зубы, и, надвинув фуражку на лысину, вышел и сел в коляску.
– В конюшню! – сказал он и достал было письма, чтобы прочесть их, но потом
раздумал, чтобы не развлекаться до осмотра лошади. – «Потом!…»
XXI
Временная конюшня, балаган из досок, была построена подле самого гипподрома, и
туда вчера должна была быть приведена его лошадь. Он еще не видал ее. В эти последние
дни он сам не ездил на проездку, а поручил тренеру и теперь решительно не знал, в каком
состоянии пришла и была его лошадь. Едва он вышел из коляски, как конюх его (грум), так
называемый мальчик, узнав еще издалека его коляску, вызвал тренера. Сухой англичанин в
высоких сапогах и в короткой жакетке, с клочком волос, оставленным только под
подбородком, неумелою походкой жокеев, растопыривая локти и раскачиваясь, вышел
навстречу.
– Ну что Фру-Фру? – спросил Вронский по-английски.