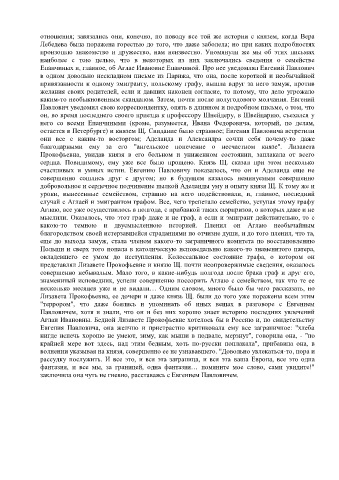Page 341 - Идиот
P. 341
отношения; завязались они, конечно, по поводу все той же истории с князем, когда Вера
Лебедева была поражена горестью до того, что даже заболела; но при каких подробностях
произошло знакомство и дружество, нам неизвестно. Упомянули же мы об этих письмах
наиболее с тою целью, что в некоторых из них заключались сведения о семействе
Епанчиных и, главное, об Аглае Ивановне Епанчиной. Про нее уведомлял Евгений Павлович
в одном довольно нескладном письме из Парижа, что она, после короткой и необычайной
привязанности к одному эмигранту, польскому графу, вышла вдруг за него замуж, против
желания своих родителей, если и давших наконец согласие, то потому, что дело угрожало
каким-то необыкновенным скандалом. Затем, почти после полугодового молчания. Евгений
Павлович уведомил свою корреспондентку, опять в длинном и подробном письме, о том, что
он, во время последнего своего приезда к профессору Шнейдеру, в Швейцарию, съехался у
него со всеми Епанчиными (кроме, разумеется, Ивана Федоровича, который, по делам,
остается в Петербурге) и князем Щ. Свидание было странное; Евгения Павловича встретили
они все с каким-то восторгом; Аделаида и Александра сочли себя почему-то даже
благодарными ему за его "ангельское попечение о несчастном князе". Лизавета
Прокофьевна, увидав князя в его больном и униженном состоянии, заплакала от всего
сердца. Повидимому, ему уже все было прощено. Князь Щ. сказал при этом несколько
счастливых и умных истин. Евгению Павловичу показалось, что он и Аделаида еще не
совершенно сошлись друг с другом; но в будущем казалось неминуемым совершенно
добровольное и сердечное подчинение пылкой Аделаиды уму и опыту князя Щ. К тому же и
уроки, вынесенные семейством, страшно на него подействовали, и, главное, последний
случай с Аглаей и эмигрантом графом. Все, чего трепетало семейство, уступая этому графу
Аглаю, все уже осуществилось в полгода, с прибавкой таких сюрпризов, о которых даже и не
мыслили. Оказалось, что этот граф даже и не граф, а если и эмигрант действительно, то с
какою-то темною и двусмысленною историей. Пленил он Аглаю необычайным
благородством своей истерзавшейся страданиями по отчизне души, и до того пленил, что та,
еще до выхода замуж, стала членом какого-то заграничного комитета по восстановлению
Польши и сверх того попала в католическую исповедальню какого-то знаменитого патера,
овладевшего ее умом до исступления. Колоссальное состояние графа, о котором он
представлял Лизавете Прокофьевне и князю Щ. почти неопровержимые сведения, оказалось
совершенно небывалым. Мало того, в какие-нибудь полгода после брака граф и друг его,
знаменитый исповедник, успели совершенно поссорить Аглаю с семейством, так что те ее
несколько месяцев уже и не видали… Одним словом, много было бы чего рассказать, но
Лизавета Прокофьевна, ее дочери и даже князь Щ. были до того уже поражены всем этим
"террором", что даже боялись и упоминать об иных вещах в разговоре с Евгением
Павловичем, хотя и знали, что он и без них хорошо знает историю последних увлечений
Аглаи Ивановны. Бедной Лизавете Прокофьевне хотелось бы в Россию и, по свидетельству
Евгения Павловича, она желчно и пристрастно критиковала ему все заграничное: "хлеба
нигде испечь хорошо не умеют, зиму, как мыши в подвале, мерзнут", говорила она, - "по
крайней мере вот здесь, над этим бедным, хоть по-русски поплакала", прибавила она, в
волнении указывая на князя, совершенно ее не узнававшего. "Довольно увлекаться-то, пора и
рассудку послужить. И все это, и вся эта заграница, и вся эта ваша Европа, все это одна
фантазия, и все мы, за границей, одна фантазия… помяните мое слово, сами увидите!"
заключила она чуть не гневно, расставаясь с Евгением Павловичем.