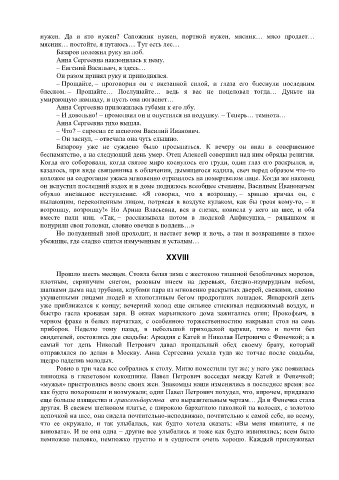Page 110 - Отцы и дети
P. 110
нужен. Да и кто нужен? Сапожник нужен, портной нужен, мясник… мясо продает…
мясник… постойте, я путаюсь… Тут есть лес…
Базаров положил руку на лоб.
Анна Сергеевна наклонилась к нему.
– Евгений Васильич, я здесь…
Он разом принял руку и приподнялся.
– Прощайте, – проговорил он с внезапной силой, и глаза его блеснули последним
блеском. – Прощайте… Послушайте… ведь я вас не поцеловал тогда… Дуньте на
умирающую лампаду, и пусть она погаснет…
Анна Сергеевна приложилась губами к его лбу.
– И довольно! – промолвил он и опустился на подушку. – Теперь… темнота…
Анна Сергеевна тихо вышла.
– Что? – спросил ее шепотом Василий Иванович.
– Он заснул, – отвечала она чуть слышно.
Базарову уже не суждено было просыпаться. К вечеру он впал в совершенное
беспамятство, а на следующий день умер. Отец Алексей совершил над ним обряды религии.
Когда его соборовали, когда святое миро коснулось его груди, один глаз его раскрылся, и,
казалось, при виде священника в облачении, дымящегося кадила, свеч перед образом что-то
похожее на содрогание ужаса мгновенно отразилось на помертвелом лице. Когда же наконец
он испустил последний вздох и в доме поднялось всеобщее стенание, Василием Ивановичем
обуяло внезапное исступление. «Я говорил, что я возропщу, – хрипло кричал он, с
пылающим, перекошенным лицом, потрясая в воздухе кулаком, как бы грозя кому-то, – и
возропщу, возропщу!» Но Арина Власьевна, вся в слезах, повисла у него на шее, и оба
вместе пали ниц. «Так, – рассказывала потом в людской Анфисушка, – рядышком и
понурили свои головки, словно овечки в полдень…»
Но полуденный зной проходит, и настает вечер и ночь, а там и возвращение в тихое
убежище, где сладко спится измученным и усталым…
XXVIII
Прошло шесть месяцев. Стояла белая зима с жестокою тишиной безоблачных морозов,
плотным, скрипучим снегом, розовым инеем на деревьях, бледно-изумрудным небом,
шапками дыма над трубами, клубами пара из мгновенно раскрытых дверей, свежими, словно
укушенными лицами людей и хлопотливым бегом продрогших лошадок. Январский день
уже приближался к концу; вечерний холод еще сильнее стискивал недвижимый воздух, и
быстро гасла кровавая заря. В окнах марьинского дома зажигались огни; Прокофьич, в
черном фраке и белых перчатках, с особенною торжественностию накрывал стол на семь
приборов. Неделю тому назад, в небольшой приходской церкви, тихо и почти без
свидетелей, состоялись две свадьбы: Аркадия с Катей и Николая Петровича с Фенечкой; а в
самый тот день Николай Петрович давал прощальный обед своему брату, который
отправлялся по делам в Москву. Анна Сергеевна уехала туда же тотчас после свадьбы,
щедро наделив молодых.
Ровно в три часа все собрались к столу. Митю поместили тут же; у него уже появилась
нянюшка в глазетовом кокошнике. Павел Петрович восседал между Катей и Фенечкой;
«мужья» пристроились возле своих жен. Знакомцы наши изменились в последнее время: все
как будто похорошели и возмужали; один Павел Петрович похудел, что, впрочем, придавало
еще больше изящества и грансеньйорства его выразительным чертам… Да и Фенечка стала
другая. В свежем шелковом платье, с широкою бархатною наколкой на волосах, с золотою
цепочкой на шее, она сидела почтительно-неподвижно, почтительно к самой себе, ко всему,
что ее окружало, и так улыбалась, как будто хотела сказать: «Вы меня извините, я не
виновата». И не она одна – другие все улыбались и тоже как будто извинялись; всем было
немножко неловко, немножко грустно и в сущности очень хорошо. Каждый прислуживал