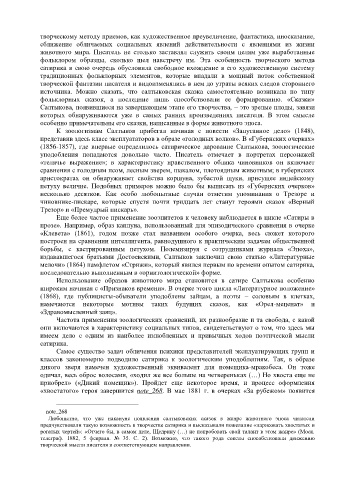Page 221 - СКАЗКИ
P. 221
творческому методу приемов, как художественное преувеличение, фантастика, иносказание,
сближение обличаемых социальных явлений действительности с явлениями из жизни
животного мира. Писатель не столько заставлял служить своим целям уже выработанные
фольклором образцы, сколько шел навстречу им. Эта особенность творческого метода
сатирика в свою очередь обусловила свободное вхождение в его художественную систему
традиционных фольклорных элементов, которые впадали в мощный поток собственной
творческой фантазии писателя и видоизменялись в нем до утраты всяких следов стороннего
источника. Можно сказать, что салтыковская сказка самостоятельно возникала по типу
фольклорных сказок, а последние лишь способствовали ее формированию. «Сказки»
Салтыкова, появившиеся на завершающем этапе его творчества, – это зрелые плоды, завязи
которых обнаруживаются уже в самых ранних произведениях писателя. В этом смысле
особенно примечательны его сказки, написанные в форме животного эпоса.
К зоологизмам Салтыков прибегал начиная с повести «Запутанное дело» (1848),
представив здесь класс эксплуататоров в образе «голодных волков». В «Губернских очерках»
(1856-1857), где впервые определилось сатирическое дарование Салтыкова, зоологические
уподобления попадаются довольно часто. Писатель отмечает в портретах персонажей
«телячье выражение»; в характеристику нравственного облика чиновников он включает
сравнения с голодным псом, лесным зверем, шакалом, плотоядным животным; в губернских
аристократах он обнаруживает свойства коршуна, зубастой щуки, присущее индейскому
петуху величие. Подобных примеров можно было бы выписать из «Губернских очерков»
несколько десятков. Как особо любопытные случаи отметим упоминания о Трезоре и
чиновнике-пискаре, которые спустя почти тридцать лет станут героями сказок «Верный
Трезор» и «Премудрый пискарь».
Еще более частое применение зооэпитетов к человеку наблюдается в цикле «Сатиры в
прозе». Например, образ каплуна, использованный для эпизодического сравнения в очерке
«Клевета» (1861), годом позже стал названием особого очерка, весь сюжет которого
построен на сравнении интеллигента, равнодушного к практическим задачам общественной
борьбы, с кастрированным петухом. Полемизируя с сотрудниками журнала «Эпоха»,
издававшегося братьями Достоевскими, Салтыков заключил свою статью «Литературные
мелочи» (1864) памфлетом «Стрижи», который явился первым по времени опытом сатирика,
последовательно выполненным в «орнитологической» форме.
Использование образов животного мира становится в сатире Салтыкова особенно
широким начиная с «Признаков времени». В очерке этого цикла «Литературное положение»
(1868), где публицисты-обыватели уподоблены зайцам, а поэты – соловьям в клетках,
намечаются некоторые мотивы таких будущих сказок, как «Орел-меценат» и
«Здравомысленный заяц».
Частота применения зоологических сравнений, их разнообразие и та свобода, с какой
они включаются в характеристику социальных типов, свидетельствуют о том, что здесь мы
имеем дело с одним из наиболее излюбленных и привычных ходов поэтической мысли
сатирика.
Самое существо задач обличения психики представителей эксплуатирующих групп и
классов закономерно подводило сатирика к зоологическим уподоблениям. Так, в образе
дикого зверя намечен художественный эквивалент для помещика-мракобеса. Он тоже
одичал, весь оброс волосами, «ходил же все больше на четвереньках (…) Но хвоста еще не
приобрел» («Дикий помещик»). Пройдет еще некоторое время, и процесс оформления
«хвостатого» героя завершится note_268. В мае 1881 г. в очерках «За рубежом» появится
note_268
Любопытно, что уже накануне появления салтыковских сказок в жанре животного эпоса читатели
предчувствовали такую возможность в творчестве сатирика и высказывали пожелание «нарисовать хвостатых и
рогатых чертей»: «Отчего бы, в самом деле, Щедрину (…) не попробовать свой талант в этом жанре» (Моск.
телеграф. 1882, 5 февраля. № 35. С. 2). Возможно, что такого рода советы способствовали движению
творческой мысли писателя в соответствующем направлении.