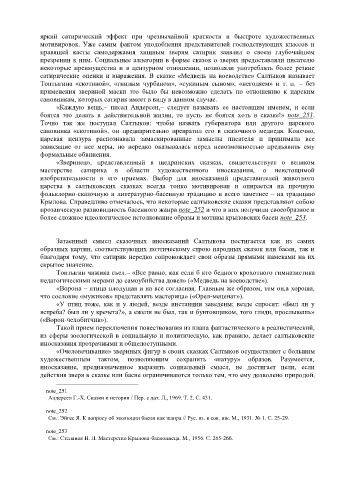Page 216 - СКАЗКИ
P. 216
яркий сатирический эффект при чрезвычайной краткости и быстроте художественных
мотивировок. Уже самим фактом уподобления представителей господствующих классов и
правящей касты самодержавия хищным зверям сатирик заявлял о своем глубочайшем
презрении к ним. Социальные аллегории в форме сказок о зверях предоставляли писателю
некоторые преимущества и в цензурном отношении, позволяли употреблять более резкие
сатирические оценки и выражения. В сказке «Медведь на воеводстве» Салтыков называет
Топтыгина «скотиной», «гнилым чурбаном», «сукиным сыном», «негодяем» и т. п. – без
применения звериной маски это было бы невозможно сделать по отношению к царским
сановникам, которых сатирик имеет в виду в данном случае.
«Каждую вещь,– писал Андерсен,– следует называть ее настоящим именем, и если
боятся это делать в действительной жизни, то пусть не боятся хоть в сказке!» note_251.
Точно так же поступал Салтыков: чтобы назвать губернатора или другого царского
сановника «скотиной», он предварительно превратил его в сказочного медведя. Конечно,
царская цензура распознавала замаскированные замыслы писателя и принимала все
зависящие от нее меры, но нередко оказывалась перед невозможностью предъявить ему
формальные обвинения.
«Зверинец», представленный в щедринских сказках, свидетельствует о великом
мастерстве сатирика в области художественного иносказания, о неистощимой
изобретательности в его приемах. Выбор для иносказаний представителей животного
царства в салтыковских сказках всегда тонко мотивирован и опирается на прочную
фольклорно-сказочную и литературно-басенную традицию и всего заметнее – на традицию
Крылова. Справедливо отмечалось, что некоторые салтыковские сказки представляют собою
прозаическую разновидность басенного жанра note_252 и что в них получили своеобразное и
более сложное идеологическое истолкование образы и мотивы крыловских басен note_253.
Затаенный смысл сказочных иносказаний Салтыкова постигается как из самих
образных картин, соответствующих поэтическому строю народных сказок или басен, так и
благодаря тому, что сатирик нередко сопровождает свои образы прямыми намеками на их
скрытое значение.
Топтыгин чижика съел.– «Все равно, как если б кто бедного крохотного гимназистика
педагогическими мерами до самоубийства довел» («Медведь на воеводстве»).
«Ворона – птица плодущая и на все согласная. Главным же образом, тем он,а хороша,
что сословие «мужиков» представлять мастерица» («Орел-меценат»).
«У птиц тоже, как и у людей, везде инстанции заведены; везде спросят: «Был ли у
ястреба? был ли у кречета?», а ежели не был, так и бунтовщиком, того гляди, прослывешь»
(«Ворон-челобитчик»).
Такой прием переключения повествования из плана фантастического в реалистический,
из сферы зоологической в социальную и политическую, как правило, делает салтыковские
иносказания прозрачными и общедоступными.
«Очеловечивание» звериных фигур в своих сказках Салтыков осуществляет с большим
художественным тактом, позволяющим сохранить «натуру» образов. Разумеется,
иносказание, предназначенное выразить социальный смысл, не достигает цели, если
действия зверя в сказке или басне ограничиваются только тем, что ему дозволено природой.
note_251
Андерсен Г.-Х. Сказки и истории / Пер. с дат. Л., 1969. Т. 2. С. 431.
note_252
См.: Эйгес Я. К вопросу об эволюции басни как жанра // Рус. яз. в сов. шк. М., 1931. № 1. С. 25-29.
note_253
См.: Степанов Н. Л. Мастерство Крылова-баснописца. М., 1956. С. 265-266.