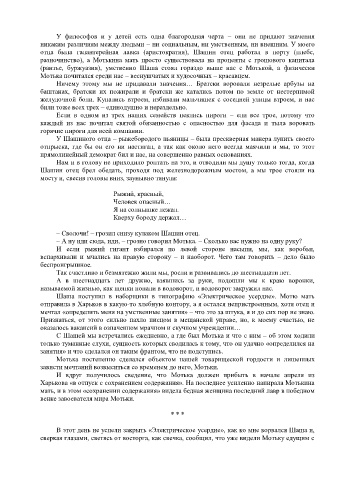Page 231 - Рассказы
P. 231
У философов и у детей есть одна благородная черта – они не придают значения
никаким различиям между людьми – ни социальным, ни умственным, ни внешним. У моего
отца была галантерейная лавка (аристократия), Шашин отец работал в порту (плебс,
разночинство), а Мотькина мать просто существовала на проценты с грошового капитала
(рантье, буржуазия), умственно Шаша стоял гораздо выше нас с Мотькой, а физически
Мотька почитался среди нас – веснушчатых и худосочных – красавцем.
Ничему этому мы не придавали значения… Братски воровали незрелые арбузы на
баштанах, братски их пожирали и братски же катались потом по земле от нестерпимой
желудочной боли. Купались втроем, избивали мальчишек с соседней улицы втроем, и нас
били тоже всех трех – единодушно и нераздельно.
Если в одном из трех наших семейств пеклись пироги – ели все трое, потому что
каждый из нас почитал святой обязанностью с опасностью для фасада и тыла воровать
горячие пироги для всей компании.
У Шашиного отца – рыжебородого пьяницы – была прескверная манера лупить своего
отпрыска, где бы он его ни настигал, а так как около него всегда маячили и мы, то этот
прямолинейный демократ бил и нас, на совершенно равных основаниях.
Нам и в голову не приходило роптать на это, и отводили мы душу только тогда, когда
Шашин отец брел обедать, проходя под железнодорожным мостом, а мы трое стояли на
мосту и, свесив головы вниз, заунывно тянули:
Рыжий, красный,
Человек опасный…
Я на солнышке лежал.
Кверху бороду держал…
– Сволочи! – грозил снизу кулаком Шашин отец.
– А ну иди сюда, иди, – грозно говорил Мотька. – Сколько вас нужно на одну руку?
И если рыжий гигант взбирался по левой стороне насыпи, мы, как воробьи,
вспархивали и мчались на правую сторону – и наоборот. Чего там говорить – дело было
беспроигрышное.
Так счастливо и безмятежно жили мы, росли и развивались до шестнадцати лет.
А в шестнадцать лет дружно, взявшись за руки, подошли мы к краю воронки,
называемой жизнью, как щепки попали в водоворот, и водоворот закружил нас.
Шаша поступил в наборщики в типографию «Электрическое усердие». Мотю мать
отправила в Харьков в какую-то хлебную контору, а я остался непристроенным, хотя отец и
мечтал «определить меня на умственные занятия» – что это за штука, я и до сих пор не знаю.
Признаться, от этого сильно пахло писцом в мещанской управе, но, к моему счастью, не
оказалось вакансий в означенном мрачном и скучном учреждении…
С Шашей мы встречались ежедневно, а где был Мотька и что с ним – об этом ходили
только туманные слухи, сущность которых сводилась к тому, что он удачно «определился на
занятия» и что сделался он таким франтом, что не подступись.
Мотька постепенно сделался объектом нашей товарищеской гордости и лишенных
зависти мечтаний возвыситься со временем до него, Мотьки.
И вдруг получилось сведение, что Мотька должен прибыть в начале апреля из
Харькова «в отпуск с сохранением содержания». На последнее усиленно напирала Мотькина
мать, и в этом «сохранении содержания» видела бедная женщина последний лавр в победном
венке завоевателя мира Мотьки.
* * *
В этот день не успели закрыть «Электрическое усердие», как ко мне ворвался Шаша и,
сверкая глазами, светясь от восторга, как свечка, сообщил, что уже видели Мотьку едущим с