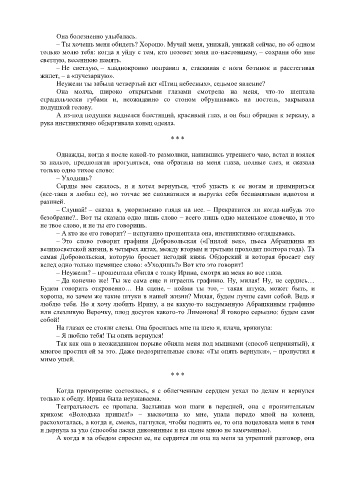Page 75 - Рассказы
P. 75
Она болезненно улыбалась.
– Ты хочешь меня обидеть? Хорошо. Мучай меня, унижай, унижай сейчас, но об одном
только молю тебя: когда я уйду с тем, кто позовет меня по-настоящему, – сохрани обо мне
светлую, весеннюю память.
– Не светлую, – хладнокровно поправил я, стаскивая с ноги ботинок и расстегивая
жилет, – а «лучезарную».
Неужели ты забыла четвертый акт «Птиц небесных», седьмое явление?
Она молча, широко открытыми глазами смотрела на меня, что-то шептала
страдальчески губами и, неожиданно со стоном обрушиваясь на постель, закрывала
подушкой голову.
А из-под подушки виднелся блестящий, красивый глаз, и он был обращен к зеркалу, а
рука инстинктивно обдергивала конец одеяла.
* * *
Однажды, когда я после какой-то размолвки, напившись утреннего чаю, встал и взялся
за пальто, предполагая прогуляться, она обратила на меня глаза, полные слез, и сказала
только одно тихое слово:
– Уходишь?
Сердце мое сжалось, и я хотел вернуться, чтоб упасть к ее ногам и примириться
(все-таки я любил ее), но тотчас же спохватился и выругал себя беспамятным идиотом и
разиней.
– Слушай! – сказал я, укоризненно глядя на нее. – Прекратится ли когда-нибудь это
безобразие?.. Вот ты сказала одно лишь слово – всего лишь одно маленькое словечко, и это
не твое слово, и не ты его говоришь.
– А кто же его говорит? – испуганно прошептала она, инстинктивно оглядываясь.
– Это слово говорит графиня Добровольская («Гнилой век», пьеса Абрашкина из
великосветской жизни, в четырех актах, между вторым и третьим проходят полтора года). Та
самая Добровольская, которую бросает негодяй князь Обдорский и которая бросает ему
вслед одно только щемящее слово: «Уходишь?» Вот кто это говорит!
– Неужели? – прошептала сбитая с толку Ирина, смотря на меня во все глаза.
– Да конечно же! Ты же сама еще и играешь графиню. Ну, милая! Ну, не сердись…
Будем говорить откровенно… На сцене, – пойми ты это, – такая штука, может быть, и
хороша, но зачем же такие штуки в нашей жизни? Милая, будем лучше сами собой. Ведь я
люблю тебя. Но я хочу любить Ирину, а не какую-то выдуманную Абрашкиным графиню
или слезливую Верочку, плод досугов какого-то Лимонова! Я говорю серьезно: будем сами
собой!
На глазах ее стояли слезы. Она бросилась мне на шею и, плача, крикнула:
– Я люблю тебя! Ты опять вернулся!
Так как она в неожиданном порыве обняла меня под мышками (способ непринятый), я
многое простил ей за это. Даже подозрительные слова: «Ты опять вернулся», – пропустил я
мимо ушей.
* * *
Когда примирение состоялось, я с облегченным сердцем уехал по делам и вернулся
только к обеду. Ирина была неузнаваема.
Театральность ее пропала. Заслышав мои шаги в передней, она с пронзительным
криком: «Володька пришел!» – выскочила ко мне, упала передо мной на колени,
расхохоталась, а когда я, смеясь, нагнулся, чтобы поднять ее, то она поцеловала меня в темя
и дернула за ухо (способы ласки диковинные и на сцене мною не замеченные).
А когда я за обедом спросил ее, не сердится ли она на меня за утренний разговор, она