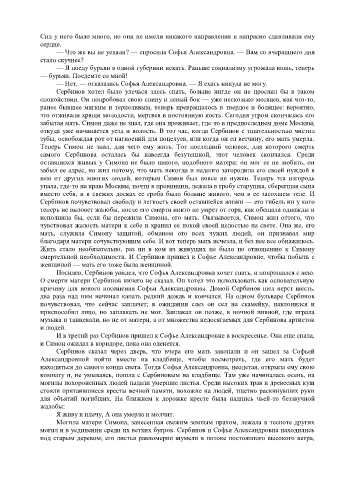Page 190 - Чевенгур
P. 190
Сил у него было много, но они не имели никакого направления и напрасно сдавливали ему
сердце.
— Что же вы не уехали? — спросила Софья Александровна. — Вам со вчерашнего дня
стало скучнее?
— Я поеду бурьян в одной губернии искать. Раньше социализму угрожала вошь, теперь
— бурьян. Поедемте со мной!
— Нет, — отказалась Софья Александровна. — Я ехать никуда не могу.
Сербинов хотел было улечься здесь спать, больше нигде он не проспал бы в таком
спокойствии. Он попробовал свою спину и левый бок — уже несколько месяцев, как что-то,
ранее бывшее мягким и терпеливым, теперь превращалось в твердое и болящее: вероятно,
это отживали хрящи молодости, мертвея в постоянную кость. Сегодня утром скончалась его
забытая мать. Симон даже не знал, где она проживает, где-то в предпоследнем доме Москвы,
откуда уже начинается уезд и волость. В тот час, когда Сербинов с тщательностью чистил
зубы, освобождая рот от нагноений для поцелуев, или когда он ел ветчину, его мать умерла.
Теперь Симон не знал, для чего ему жить. Тот последний человек, для которого смерть
самого Сербинова осталась бы навсегда безутешной, этот человек скончался. Среди
оставшихся живых у Симона не было никого, подобного матери: он мог ее не любить, он
забыл ее адрес, но жил потому, что мать некогда и надолго загородила его своей нуждой в
нем от других многих людей, которым Симон был вовсе не нужен. Теперь эта изгородь
упала, где-то на краю Москвы, почти в провинции, лежала в гробу старушка, сберегшая сына
вместо себя, и в свежих досках ее гроба было больше живого, чем в ее засохшем теле. И
Сербинов почувствовал свободу и легкость своей оставшейся жизни — его гибель ни у кого
теперь не вызовет жалобы, после его смерти никто не умрет от горя, как обещала однажды и
исполнила бы, если бы пережила Симона, его мать. Оказывается, Симон жил оттого, что
чувствовал жалость матери к себе и хранил ее покой своей целостью на свете. Она же, его
мать, служила Симону защитой, обманом ото всех чужих людей, он признавал мир
благодаря матери сочувствующим себе. И вот теперь мать исчезла, и без нее все обнажилось.
Жить стало необязательно, раз ни в ком из живущих не было по отношению к Симону
смертельной необходимости. И Сербинов пришел к Софье Александровне, чтобы побыть с
женщиной — мать его тоже была женщиной.
Посидев, Сербинов увидел, что Софья Александровна хочет спать, и попрощался с нею.
О смерти матери Сербинов ничего не сказал. Он хотел это использовать как основательную
причину для нового посещения Софьи Александровны. Домой Сербинов шел верст шесть,
два раза над ним начинал капать редкий дождь и кончался. На одном бульваре Сербинов
почувствовал, что сейчас заплачет; в ожидании слез он сел на скамейку, наклонился и
приспособил лицо, но заплакать не мог. Заплакал он позже, в ночной пивной, где играла
музыка и танцевали, но не от матери, а от множества недосягаемых для Сербинова артисток
и людей.
И в третий раз Сербинов пришел к Софье Александровне в воскресенье. Она еще спала,
и Симон ожидал в коридоре, пока она оденется.
Сербинов сказал через дверь, что вчера его мать закопали и он зашел за Софьей
Александровной пойти вместе на кладбище, чтобы посмотреть, где его мать будет
находиться до самого конца света. Тогда Софья Александровна, неодетая, открыла ему свою
комнату и, не умываясь, пошла с Сербиновым на кладбище. Там уже начиналась осень, на
могилы похороненных людей падали умершие листья. Среди высоких трав и древесных кущ
стояли притаившиеся кресты вечной памяти, похожие на людей, тщетно раскинувших руки
для объятий погибших. На ближнем к дорожке кресте была надпись чьей-то беззвучной
жалобы:
Я живу и плачу, А она умерла и молчит.
Могила матери Симона, занесенная свежим земным прахом, лежала в тесноте других
могил и в уединении среди их ветхих бугров. Сербинов и Софья Александровна находились
под старым деревом; его листья равномерно шумели в потоке постоянного высокого ветра,