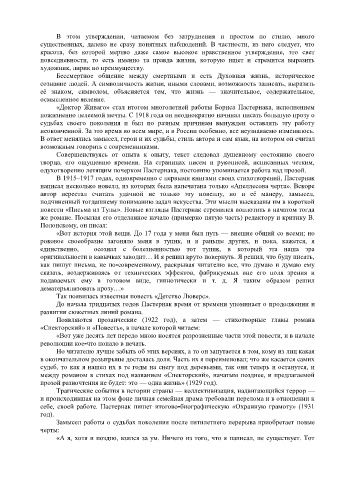Page 2 - Доктор Живаго
P. 2
В этом утверждении, читаемом без затруднения и простом по стилю, много
существенных, далеко не сразу понятных наблюдений. В частности, из него следует, что
красота, без которой мертво даже самое высокое нравственное утверждение, это свет
повседневности, то есть именно та правда жизни, которую ищет и стремится выразить
художник, лирик по преимуществу.
Бессмертное общение между смертными и есть Духовная жизнь, историческое
сознание людей. А символичность жизни, иными словами, возможность записать, выразить
её знаком, символом, объясняется тем, что жизнь — значительное, содержательное,
осмысленное явление.
«Доктор Живаго» стал итогом многолетней работы Бориса Пастернака, исполнением
пожизненно лелеемой мечты. С 1918 года он неоднократно начинал писать большую прозу о
судьбах своего поколения и был по разным причинам вынужден оставлять эту работу
неоконченной. За это время во всем мире, и в России особенно, все неузнаваемо изменилось.
В ответ менялись замысел, герои и их судьбы, стиль автора и сам язык, на котором он считал
возможным говорить с современниками.
Совершенствуясь от опыта к опыту, текст следовал душевному состоянию своего
творца, его ощущению времени. На страницах писем и рукописей, исписанных четким,
одухотворенно летящим почерком Пастернака, постоянно упоминается работа над прозой.
В 1915–1917 годах, одновременно с первыми книгами своих стихотворений, Пастернак
написал несколько новелл, из которых была напечатана только «Апеллесова черта». Вскоре
автор перестал считать удачной не только эту новеллу, но и её манеру, замысел,
подчиненный тогдашнему пониманию задач искусства. Эти мысли высказаны им в короткой
повести «Письма из Тулы». Новые взгляды Пастернак стремился воплотить в начатом тогда
же романе. Посылая его отделанное начало (примерно пятую часть) редактору и критику В.
Полонскому, он писал:
«Вот история этой вещи. До 17 года у меня был путь — внешне общий со всеми; но
роковое своеобразие загоняло меня в тупик, и я раньше других, и пока, кажется, я
единственно, — осознал с болезненностью тот тупик, в который эта наша эра
оригинальности в кавычках заводит… И я решил круто повернуть. Я решил, что буду писать,
как пишут письма, не по-современному, раскрывая читателю все, что думаю и думаю ему
сказать, воздерживаясь от технических эффектов, фабрикуемых вне его поля зрения и
подаваемых ему в готовом виде, гипнотически и т. д. Я таким образом решил
дематерьялизовать прозу…»
Так появилась известная повесть «Детство Люверс».
До начала тридцатых годов Пастернак время от времени упоминает о продолжении и
развитии сюжетных линий романа.
Появляются прозаические (1922 год), а затем — стихотворные главы романа
«Спекторский» и «Повесть», в начале которой читаем:
«Вот уже десять лет передо мною носятся разрозненные части этой повести, и в начале
революции кое-что попало в печать.
Но читателю лучше забыть об этих версиях, а то он запутается в том, кому из лиц какая
в окончательном розыгрыше досталась доля. Часть их я переименовал; что же касается самих
судеб, то как я нашел их в те годы на снегу под деревьями, так они теперь и останутся, и
между романом в стихах под названием «Спекторский», начатым позднее, и предлагаемой
прозой разночтения не будет: это — одна жизнь» (1929 год).
Трагические события в истории страны — коллективизация, надвигающийся террор —
и происходившая на этом фоне личная семейная драма требовали перелома и в отношении к
себе, своей работе. Пастернак пишет итогово-биографическую «Охранную грамоту» (1931
год).
Замысел работы о судьбах поколения после пятилетнего перерыва приобретает новые
черты:
«А я, хотя и поздно, взялся за ум. Ничего из того, что я написал, не существует. Тот