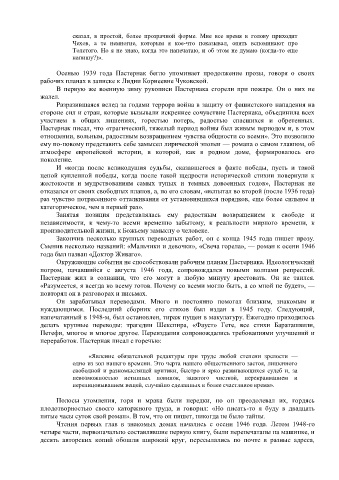Page 4 - Доктор Живаго
P. 4
сказал, в простой, более прозрачной форме. Мне все время в голову приходит
Чехов, а те немногие, которым я кое-что показывал, опять вспоминают про
Толстого. Но я не знаю, когда это напечатаю, и об этом не думаю (когда-то еще
напишу?)».
Осенью 1939 года Пастернак бегло упоминает продолжение прозы, говоря о своих
рабочих планах в записке к Лидии Корнеевне Чуковской.
В первую же военную зиму рукописи Пастернака сгорели при пожаре. Он о них не
жалел.
Разразившаяся вслед за годами террора война в защиту от фашистского нападения на
стороне сил и стран, которые вызывали искреннее сочувствие Пастернака, объединила всех
участием в общих лишениях, горестью потерь, радостью спасшихся и обретенных.
Пастернак писал, что «трагический, тяжелый период войны был живым периодом и, в этом
отношении, вольным, радостным возвращением чувства общности со всеми». Это позволило
ему по-новому представить себе замысел лирической эпопеи — романа о самом главном, об
атмосфере европейской истории, в которой, как в родном доме, формировалось его
поколение.
И «когда после великодушия судьбы, сказавшегося в факте победы, пусть и такой
ценой купленной победы, когда после такой щедрости исторической стихии повернули к
жестокости и мудрствованиям самых тупых и темных довоенных годов», Пастернак не
отказался от своих свободных планов, а, по его словам, «испытал во второй (после 1936 года)
раз чувство потрясенного отталкивания от установившихся порядков, еще более сильное и
категорическое, чем в первый раз».
Занятая позиция представлялась ему радостным возвращением к свободе и
независимости, к чему-то всеми временно забытому, к реальности мирного времени, к
производительной жизни, к Божьему замыслу о человеке.
Закончив несколько крупных переводных работ, он с конца 1945 года пишет прозу.
Сменив несколько названий: «Мальчики и девочки», «Свеча горела», — роман к осени 1946
года был назван «Доктор Живаго».
Окружающие события не способствовали рабочим планам Пастернака. Идеологический
погром, начавшийся с августа 1946 года, сопровождался новыми волнами репрессий.
Пастернак жил в сознании, что его могут в любую минуту арестовать. Он не таился.
«Разумеется, я всегда ко всему готов. Почему со всеми могло быть, а со мной не будет», —
повторял он в разговорах и письмах.
Он зарабатывал переводами. Много и постоянно помогал близким, знакомым и
нуждающимся. Последний сборник его стихов был издан в 1945 году. Следующий,
напечатанный в 1948-м, был остановлен, тираж пущен в макулатуру. Ежегодно приходилось
делать крупные переводы: трагедии Шекспира, «Фауст» Гете, все стихи Бараташвили,
Петефи, многое и многое другое. Переиздания сопровождались требованиями улучшений и
переработок. Пастернак писал с горечью:
«Явление обязательной редактуры при труде любой степени зрелости —
одно из зол нашего времени. Это черта нашего общественного застоя, лишенного
свободной и разномыслящей критики, быстро и ярко развивающихся судеб и, за
невозможностью истинных новинок, занятого чисткой, перекраиванием и
перелицовыванием вещей, случайно сделанных в более счастливое время».
Полосы утомления, горя и мрака были нередки, но он преодолевал их, гордясь
плодотворностью своего каторжного труда, и говорил: «Но писать-то я буду в двадцать
пятые часы суток свой роман». В том, что он пишет, никогда не было тайны.
Чтения первых глав в знакомых домах начались с осени 1946 года. Летом 1948-го
четыре части, первоначально составлявшие первую книгу, были перепечатаны на машинке, и
десять авторских копий обошли широкий круг, пересылались по почте в разные адреса,