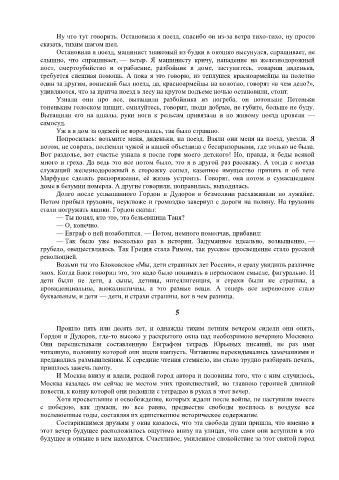Page 297 - Доктор Живаго
P. 297
Ну что тут говорить. Остановила я поезд, спасибо он из-за ветра тихо-тихо, ну просто
сказать, тихим шагом шел.
Остановила я поезд, машинист знакомый из будки в окошко высунулся, спрашивает, не
слышно, что спрашивает, — ветер. Я машинисту кричу, нападение на железнодорожный
пост, смертоубийство и ограбление, разбойник в доме, заступитесь, товарищ дяденька,
требуется спешная помощь. А пока я это говорю, из теплушек красноармейцы на полотно
один за другим, воинский был поезд, да, красноармейцы на полотно, говорят «в чем дело?»,
удивляются, что за притча поезд в лесу на крутом подъеме ночью остановили, стоит.
Узнали они про все, вытащили разбойника из погреба, он потоньше Петеньки
тоненьким голоском пищит, смилуйтесь, говорит, люди добрые, не губите, больше не буду.
Вытащили его на шпалы, руки ноги к рельсам привязали и по живому поезд провели —
самосуд.
Уж я в дом за одежей не ворочалась, так было страшно.
Попросилась: возьмите меня, дяденьки, на поезд. Взяли они меня на поезд, увезли. Я
потом, не соврать, полземли чужой и нашей объездила с беспризорными, где только не была.
Вот раздолье, вот счастье узнала я после горя моего детского! Но, правда, и беды всякой
много и греха. Да ведь это все потом было, это я в другой раз расскажу. А тогда с поезда
служащий железнодорожный в сторожку сошел, казенное имущество принять и об тете
Марфуше сделать распоряжение, её жизнь устроить. Говорят, она потом в сумасшедшем
доме в безумии померла. А другие говорили, поправилась, выходилась.
Долго после услышанного Гордон и Дудоров в безмолвии расхаживали по лужайке.
Потом прибыл грузовик, неуклюже и громоздко завернул с дороги на поляну. На грузовик
стали погружать ящики. Гордон сказал:
— Ты понял, кто это, эта бельевщица Таня?
— О, конечно.
— Евграф о ней позаботится. — Потом, немного помолчав, прибавил:
— Так было уже несколько раз в истории. Задуманное идеально, возвышенно, —
грубело, овеществлялось. Так Греция стала Римом, так русское просвещение стало русской
революцией.
Возьми ты это Блоковское «Мы, дети страшных лет России», и сразу увидишь различие
эпох. Когда Блок говорил это, это надо было понимать в переносном смысле, фигурально. И
дети были не дети, а сыны, детища, интеллигенция, и страхи были не страшны, а
провиденциальны, апокалиптичны, а это разные вещи. А теперь все переносное стало
буквальным, и дети — дети, и страхи страшны, вот в чем разница.
5
Прошло пять или десять лет, и однажды тихим летним вечером сидели они опять,
Гордон и Дудоров, где-то высоко у раскрытого окна над необозримою вечернею Москвою.
Они перелистывали составленную Евграфом тетрадь Юрьевых писаний, не раз ими
читанную, половину которой они знали наизусть. Читавшие перекидывались замечаниями и
предавались размышлениям. К середине чтения стемнело, им стало трудно разбирать печать,
пришлось зажечь лампу.
И Москва внизу и вдали, родной город автора и половины того, что с ним случилось,
Москва казалась им сейчас не местом этих происшествий, но главною героиней длинной
повести, к концу которой они подошли с тетрадью в руках в этот вечер.
Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, не наступили вместе
с победою, как думали, но все равно, предвестие свободы носилось в воздухе все
послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание.
Состарившимся друзьям у окна казалось, что эта свобода души пришла, что именно в
этот вечер будущее расположилось ощутимо внизу на улицах, что сами они вступили в это
будущее и отныне в нем находятся. Счастливое, умиленное спокойствие за этот святой город